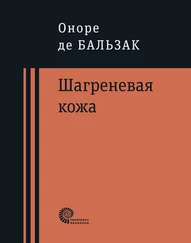| We both were waiting for our carriages. |
Мы ждали экипажей. |
| "'Ah! so you are living yet?' "That was the meaning of her smile, and probably of the spiteful words she murmured in the ear of her cicisbeo, telling him my history no doubt, rating mine as a common love affair. |
"А, вы еще живы! " - так можно было понять ее улыбку и те коварные невнятные слова, с которыми она обратилась к своему чичисбею, разумеется, поведав ему мою историю и определив мою любовь как любовь пошлую. |
| She was deceived, yet she was applauding her perspicacity. |
Она радовалась мнимой своей прозорливости. |
| Oh, that I should be dying for her, must still adore her, always see her through my potations, see her still when I was overcome with wine, or in the arms of courtesans; and know that I was a target for her scornful jests! |
О, умирать из-за нее, все еще обожать ее, видеть ее перед собой, даже предаваясь излишествам в миг опьянения на ложе куртизанок, - и сознавать себя мишенью для ее насмешек! |
| Oh, that I should be unable to tear the love of her out of my breast and to fling it at her feet! |
Быть не в силах разорвать себе грудь, вырвать оттуда любовь и бросить к ее ногам! |
| "Well, I quickly exhausted my funds, but owing to those three years of discipline, I enjoyed the most robust health, and on the day that I found myself without a penny I felt remarkably well. |
Я скоро растратил свое богатство, однако три года правильной жизни наделили меня крепчайшим здоровьем, а в тот день, когда я очутился без денег, я чувствовал себя превосходно. |
| In order to carry on the process of dying, I signed bills at short dates, and the day came when they must be met. |
Чтобы продолжить свое самоубийство, я выдал несколько краткосрочных векселей, и день платежа настал. |
| Painful excitements! but how they quicken the pulses of youth! |
Жестокие волнения! А как бодрят они юные души! |
| I was not prematurely aged; I was young yet, and full of vigor and life. |
Я не рожден для того, чтобы рано состариться; моя душа все еще была юной, пылкой, бодрой. |
| "At my first debt all my virtues came to life; slowly and despairingly they seemed to pace towards me; but I could compound with them-they were like aged aunts that begin with a scolding and end by bestowing tears and money upon you. |
Мой первый вексель пробудил было все прежние мои добродетели; они пришли медленным шагом и, опечаленные, предстали передо мной. Мне удалось уговорить их, как старых тетушек, которые сначала ворчат, но в конце концов расплачутся и дадут денег. |
| "Imagination was less yielding; I saw my name bandied about through every city in Europe. |
Мое воображение было более сурово, оно рисовало мне, как мое имя странствует по Европе, из города в город. |
| 'One's name is oneself 1says Eusebe Salverte. |
Наше имя - это мы сами! - сказал Евсевий Сальверт . |
| After these excursions I returned to the room I had never quitted, like a doppelganger in a German tale, and came to myself with a start. |
Как двойник одного немца, я после скитаний возвращался в свое жилище, откуда в действительности и не думал выходить, и внезапно просыпался. |
| "I used to see with indifference a banker's messenger going on his errands through the streets of Paris, like a commercial Nemesis, wearing his master's livery-a gray coat and a silver badge; but now I hated the species in advance. |
Когда-то, встречаясь на улицах Парижа с банковскими посыльными, этими укорами коммерческой совести, одетыми в серое, носящими ливрею с гербом своего хозяина - с серебряной бляхой, я смотрел на них равнодушно; теперь я заранее их ненавидел. |
| One of them came one morning to ask me to meet some eleven bills that I had scrawled my name upon. |
Разве не явится ко мне кто-нибудь из них однажды утром и не потребует ответа относительно одиннадцати выданных мной векселей? |
| My signature was worth three thousand francs! Taking me altogether, I myself was not worth that amount. |
Моя подпись стоила три тысячи франков -столько, сколько не стоил я сам! |
| Sheriff's deputies rose up before me, turning their callous faces upon my despair, as the hangman regards the criminal to whom he says, |
Судебные пристава, бесчувственные ко всякому горю, даже к смерти, вставали передо мною, как палачи, говорящие приговоренному: |
| 'It has just struck half-past three.' I was in the power of their clerks; they could scribble my name, drag it through the mire, and jeer at it. |
"Половина четвертого пробило! " Их писцы имели право схватить меня, нацарапать мое имя в своих бумажонках, пачкать его, насмехаться над ним. |
| I was a defaulter. |
Я был должником! |
| Has a debtor any right to himself? |
Кто задолжал, тот разве может принадлежать себе? |
| Could not other men call me to account for my way of living? |
Разве другие люди не вправе требовать с меня отчета, как я жил? |
| Why had I eaten puddings a la chipolata? |
Зачем я поедал пудинги а-ля чиполлата? |
| Why had I iced my wine? |
Зачем я пил шампанское? |
| Why had I slept, or walked, or thought, or amused myself when I had not paid them? |
Зачем я спал, ходил, думал, развлекался, не платя им? |
| "At any moment, in the middle of a poem, during some train of thought, or while I was gaily breakfasting in the pleasant company of my friends, I might look to see a gentleman enter in a coat of chestnut-brown, with a shabby hat in his hand. |
В минуту, когда я упиваюсь стихами, или углублен в какую-нибудь мысль, или же, сидя за завтраком, окружен друзьями, радостями, милыми шутками, - передо мной может предстать господин в коричневом фраке, с потертой шляпой в руке. |
| This gentleman's appearance would signify my debt, the bill I had drawn; the spectre would compel me to leave the table to speak to him, blight my spirits, despoil me of my cheerfulness, of my mistress, of all I possessed, down to my very bedstead. |
И обнаружится, что господин этот - мой Вексель, мой Долг, призрак, от которого угаснет моя радость; он заставит меня выйти из-за стола и разговаривать с ним; он похитит у меня мою веселость, мою возлюбленную - все, вплоть до постели. |
| "Remorse itself is more easily endured. Remorse does not drive us into the street nor into the prison of Sainte-Pelagie; it does not force us into the detestable sink of vice. Remorse only brings us to the scaffold, where the executioner invests us with a certain dignity; as we pay the extreme penalty, everybody believes in our innocence; but people will not credit a penniless prodigal with a single virtue. |
Да, укоры совести более снисходительны, они не выбрасывают нас на улицу и не сажают в Сент-Пелажи, не толкают в гнусный вертеп порока; они никуда не тащат нас, кроме эшафота, где палач нас облагораживает: во время самой казни все верят в нашу невинность, меж тем как у разорившегося кутилы общество не признает ни единой добродетели. |

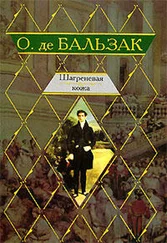
![Агата Кристи - На краю [английский и русский параллельные тексты]](/books/32247/agata-kristi-na-krayu-anglijskij-i-russkij-paralle-thumb.webp)
![Агата Кристи - Объявлено убийство [английский и русский параллельные тексты]](/books/33247/agata-kristi-obyavleno-ubijstvo-anglijskij-i-russ-thumb.webp)
![Фрэнсис Фицджеральд - По эту сторону рая [английский и русский параллельные тексты]](/books/34130/frensis-ficdzherald-po-etu-storonu-raya-anglijskij-thumb.webp)
![Роберт Шекли - Компания «Необузданные таланты» [английский и русский параллельные тексты]](/books/34808/robert-shekli-kompaniya-neobuzdannye-talanty-angl-thumb.webp)
![Уильям Макгиверн - Завтра опять неизвестность [английский и русский параллельные тексты]](/books/35168/uilyam-makgivern-zavtra-opyat-neizvestnost-angli-thumb.webp)
![Айрис Мердок - О приятных и праведных [английский и русский параллельные тексты]](/books/35170/ajris-merdok-o-priyatnyh-i-pravednyh-anglijskij-i-thumb.webp)
![Мэри Райнхарт - Альбом [английский и русский параллельные тексты]](/books/35200/meri-rajnhart-albom-anglijskij-i-russkij-paralle-thumb.webp)