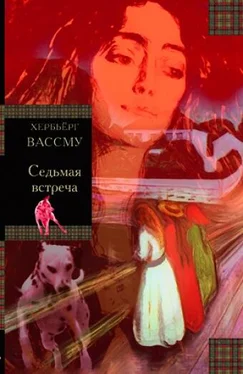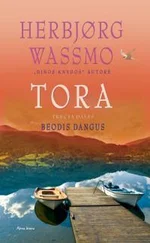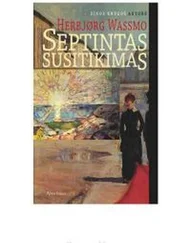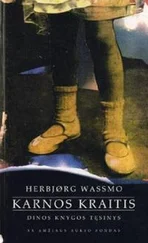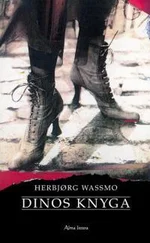Руфь старалась не думать о своей неприязни к АГ. Что-то подсказывало ей, что сейчас это самое правильное. Работа отнимала все — время и силы, так что у нее была естественная причина не встречаться с ним. Наконец он улетел в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на выставке одного из своих самых известных подопечных художников. Теперь она смогла вздохнуть свободно и приступить к действиям.
В хранилище она представила дело так, будто по договоренности с АГ ей нужно отобрать свои картины для выставки в Норвегии. На складе у нее хранились десять больших картин, написанных акрилом, и шестнадцать — маслом. Портрет АГ она не взяла. Она попросила служащих галереи упаковать картины и отослать их к ней на Инкогнитогата.
Потом она посетила адвоката и попросила его проверить, какие у нее есть права и обязанности по контракту с АГ. Оказалось, что у нее больше нет никаких обязанностей, кроме выставки в Париже в феврале. Ей пришлось признаться, что она не подозревала о том, что АГ имел право распоряжаться ее банковским счетом.
— Ведь все мои финансовые дела решала галерея, — смущенно сказала она.
Оказалось, что у АГ было такое право и что она сама подписала ему доверенность. Адвокат помог ей аннулировать эту доверенность.
Руфь наняла двух рабочих, чтобы они помогли ей освободить мастерскую и переслать все, что необходимо, в Осло. Семь картин, которые она написала в Нью-Йорке и которые стояли в квартире АГ, она просто списала со счета.
До последней минуты, пока дверь самолета не была задраена, она боялась, что в проходе салона появится АГ и заберет ее. И только когда самолет был уже в воздухе, наступила реакция. Бессилие. Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. И испытала такое облегчение, что ей стало даже неловко.
* * *
Когда из морской дымки вынырнула колокольня, Руфь охватила дрожь. Многие пассажиры откровенно пялились на нее, но, к счастью, старый корпус парома сотрясался от работы мотора, и ее дрожи никто не заметил.
Кое-кого она узнала, они были похожи на плохие отпечатки самих себя. Другие же так вжились в свой новый образ, что ей было трудно их узнать. Она переговаривалась с теми немногими, кто к ней обращался, и старалась держаться так, словно они только вчера расстались. Это оказалось не так трудно, как она боялась. Островитяне, как и в былые времена, толковали о погоде и временах года и при этом откровенно или украдкой разглядывали ее.
Тур служил одновременно и магнитом, и кранцем. Он чувствовал себя значительно лучше, чем в больнице, когда она уезжала от него. Правда, он еще пользовался костылями, но, вообще, по его словам, был в отличной форме. Он вкратце рассказал ей о родственниках и соседях на Острове. С кем они дружили, а с кем даже не разговаривали. Руфь поняла, что до сих пор он избегал таких признаний.
Она не видела родителей с тех пор, как уехала в Берлин. В автобусе она призналась Туру, что не знает, как ее встретят, и не уверена в том, что родители обрадуются ее приезду. Он насмешливо фыркнул.
— Можно подумать, что ты их не знаешь. Они такие гордые, что сдохнуть можно.
Родители стояли на пристани. Стояли, прижавшись друг к другу, под старой эмалированной вывеской «Табак Тидеманна». Руфь не могла припомнить, чтобы они когда-нибудь встречали ее. Она глотнула воздуха и сошла на причал. Доски причала были скользкие. Только что прошел дождь. А в воздухе уже пахло морозом. Изо рта у всех шел пар. Все было таким, каким она помнила, и все-таки совершенно другим.
Мать немного больше сгорбилась, и морщины стали глубже, а в остальном она осталась прежней. Чуть больше кракелюр, как на портретах старых мастеров. Руфь поразило, что она никогда по-настоящему не видела мать. Голос у матери стал мягче, в нем даже слышалась ласка.
Эмиссар совсем состарился и превратился в дрожащую тень самого себя. Почти седой, с большими залысинами, он был похож на патриархов, о которых всегда проповедовал. Властное выражение лица исчезло. Но глаза остались живыми и смотрели прямо.
Она всегда называла его Эмиссаром, как все в селении, но только за глаза. Может, пришло время найти удобный момент и назвать его «папой», пока не поздно? Ради Тура.
Какой-то человек вышел из старого грузовичка, стоящего на причале. Это был Поуль. Если бы Руфь не знала, что дядя Арон умер, она приняла бы Поуля за его отца. Время безжалостно обходится с людьми.
Поуль протянул Руфи руку и приветствовал с возвращением. Она помнила его застенчивость и ускользающий взгляд. Теперь это ее растрогало. Жители селения всегда пользовались Поулем как посредником, когда хотели покарать бабушкину родню. Но найти в себе свою старую неприязнь к нему Руфь не могла. Он выжил в этих условиях. Что само по себе было подвигом.
Читать дальше