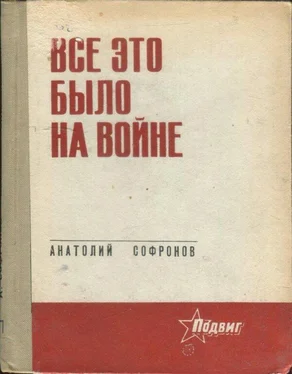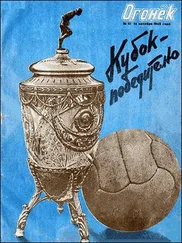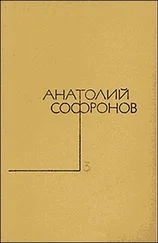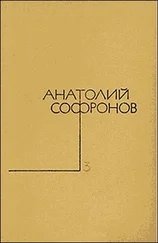Глаза такие я встречал однажды,
Их к этой хате посреди села
Дорожная, настойчивая жажда
Когда-то без ошибки привела.
Мы узнаем друг друга постепенно,
Мы входим в дом, и вдруг передо мной
Как будто бы восставшая из тлена,
Висит гитара с порванной струной.
А над гитарой, лентой обвивая
Помятый гриф, былой певучий строй,
Поникла бескозырка боевая,
Сверкая тускло алою звездой.
Пройдут года… И дни другие сменят,
И, может, как отец, в родном краю
Сын бескозырку старую наденет
На стриженую голову свою.
Отцу он будет по годам ровесник,
Пойдет ему всего двадцатый год.
И матерью переданную песню
Он, как отец, бывало, запоет:
«Не жди, матрос, ты в плаванье покоя,
Не жди от моря сна и тишины;
Сжимай штурвал обветренной рукою,
Взлетай на гребень бешеной волны!»
Он будет петь, высокий, русый, юный.
И будут слушать степи и леса:
«Мы в жизни ходим, словно по бурунам,
Крепи, матрос, под ветром паруса!»
Миус, Миус, рубеж великой славы,
Среди огня цветов и мертвых трав
Ты встал навек, простой и величавый,
Для вечной жизни смертью смерть поправ.
Пусть пред тобой земной простор играет,
Зеленый, голубой и золотой,
Пусть памятник бессмертию сверкает
Над той крутой Сто первой высотой!
Осенний ветер и осенний дождь,
Нет от дождя спасенья никому…
И на ходу ты сразу не поймешь,
Кто режет фарами ночную тьму.
Колесный скрип, и чавканье копыт,
И мокрый хлест вожжей, и свист кнута,
Махорки дым — солдатский быт.
И темнота. И темнота.
И я иду. И я не сплю.
Я слышу гул шагов моих.
Я гул чужих шагов ловлю —
Друзей моих, друзей моих.
Из темноты летит холодный лист,
Он мокрый и пристал к моей щеке —
Воспоминанья мигом пронеслись:
Как некогда, как где-то вдалеке
Упал с березы тонкой на меня,
Прощаясь, желтый лист на грудь;
Как в золоте осеннего огня
Меня ты провожала в дальний путь,
Далекий путь… Под сапогами грязь —
И ноги вязнут в глине и скользят.
Идут, под мокрым ветром наклонясь,
Бойцы, мои друзья, твои друзья.
Но кто-то вдруг вполголоса запел,
И все в рядах за ним по одному
Забыли о дожде, что все шумел
И сыпал капли звонкие во тьму.
И песня закачалась под дождем,
Ее студеный дождь не погасил,
Она казалась синим огоньком,
Что над колонной, над дорогой плыл…
Из первой муки, по примеру старинному,
Хозяйка в печи каравай испекла.
Был вечер, и пламя свечи стеариновой
Металось над желтой клеенкой стола.
Пока в полутьме грохотала ухватами,
Метелкой сметала с испода золу,
Семья собиралась — шумели за хатою,
Скрипели дверьми и садились к столу.
Хозяйка разрезала пилкой зубчатою
Буханку на равные восемь частей:
Себе, старику да невестке с внучатами,
Две главные доли — для двух сыновей.
Хрустела под лезвием корка пшеничная,
Румяна от жара, вкусна и нова;
Мука удалась, золотая, отличная,
Смололи на совесть ее жернова.
Две доли сыновних остались нетронуты:
Одна — навсегда, а другая — пока
Война не замолкнет далекими фронтами,
Где Висла, где Одер, где Шпрее-река,
Где старший сынок их, четырежды раненный,
Со шрамом на белой казачьей груди,
Идет в наступленье в далекой Германии,
По старой привычке всегда впереди.
И, может быть, в сумке буханка солдатская
Из той же муки да армейских дрожжей
За ужином делится, равная, братская,
Товарищам сына на восемь частей.
И каждый в ней чувствует дали далекие
И шелест пшеницы в просторах степных,
Подруги тоскующей вздохи глубокие
И русые кудри мальчишек своих…
Ребята ведь ждут — несмышленые парубки,
Им все поскорее, немедля давай! —
Вот батька вернется, подымет их на руки
И сядет к столу доедать каравай.
Все меньше оставалось русских рек,
Седее становились брови,
И почернел у Волги белый снег
От нашей и от вражьей крови.
Но, выстояв у Волги, мы вперед пошли
Через пески, заснеженные дали
И жажду истомившейся души
У берегов родимых утоляли.
Некрепкий лед у Дона проломив,
Черпнув воды в солдатский котелочек,
Священное молчанье сохранив,
Стояли под Ростовом зимней ночью.
Читать дальше