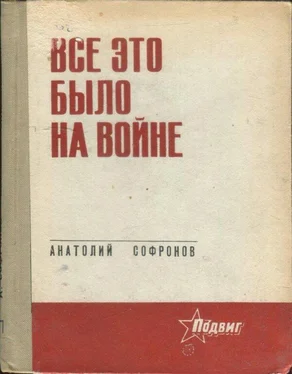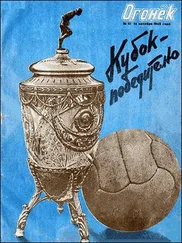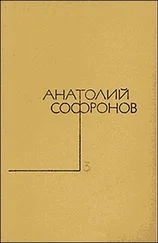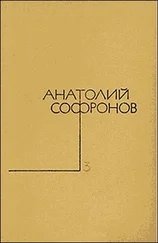Из леса в поле бешеным карьером
Казачий полк летит на скакунах;
Еще клинки в крови не побагрели,
Но казаки стоят на стременах.
И топот плотный по полю несется,
Как с неба павший перекатный гром,
Из края в край над степью раздается:
«Э-гей! Гей-гей! Казаки за бугром!»
Мелькают в поле красные лампасы,
Шнурки от бурок вьются на груди,
И перерезанная с лету насыпь
Уже шуршит песками позади.
Горит, как дом, немецкий бронепоезд,
Касаясь неба дымным языком;
Гремит в степи, в высоких травах кроясь:
«Э-гей! Гей-гей! Казаки за бугром!»
У переправы на речном изломе —
Железный стон и выкрики солдат;
Дивизион фашистский на пароме,
Звенит струной натянутый канат.
Но где ты, левый, где ты, берег правый,
Канат рассечен, вниз идет паром.
И над рекой встает у переправы:
«Э-гей! Гей-гей! Казаки за бугром!»
Стоит печальный придорожный тополь,
Ведет с дорогой долгий разговор…
Но вот он слышит за холмами топот,
Копытный стук, стремянный перебор.
И он шумит от радости ветвями,
Звенит над степью тихим серебром,
Гудит корой и темными корнями:
«Э-гей! Гей-гей! Казаки за бугром».
Э-гей! Гей-гей! Не скошены, не смяты,
Гремят обвалом грозные полки.
Встают восходы, падают закаты —
В седле, в седле донские казаки.
Поля, поля, широкие долины —
Мы все пройдем, но с седел не сойдем,
Пока не грянем громом под Берлином:
«Э-гей! Гей-гей! Казаки за бугром!»
Когда к нам ворвалось жестокое горе,—
Дружка своего мы в бою потеряли,—
Сыграли над ним мы последнюю зорю,
Винтовку его мы с земли подобрали.
В шинель боевую его завернули
И в землю сырую его опустили;
Друг другу в глаза сиротливо взглянули,
Над тесной, над темной могилой застыли.
Земля его долго степями носила
И все отдавала ему — не скупилась;
Она ему волю давала и силу —
Теперь неохотно пред ним расступилась.
Стояли над теплой могилой солдаты,
Глаза их под ветром блестели сухие.
Молчали солдаты и верили свято
В великую силу великой России.
Мы верили свято, что рокот тяжелый
К могиле степной издали донесется,
Землей черноземной, по рощам и селам,
Как ветер, как эхо, над ним пронесется.
И друг наш услышит в остывшей могиле
Неумершим слухом степного солдата,
Что клятву ему мы в бою сохранили:
Вернулись туда, где стояли когда-то.
Дикий вьющийся виноград,
Что спускался по стенке к окну,
Стал как будто ты староват —
Неужели и ты был в плену?
Ты как будто совсем одичал
Над разбитым моим окном:
По-старинному не встречал,
Не шумел вырезным листом.
Прошумят над родной землей
Очистительные дожди…
Я вернусь и увижусь с тобой,
Подожди, виноград, подожди.
И опять на заре, по весне,
Когда солнце рассыплет свет,
Ты заглянешь в окно ко мне,
Как заглядывал много лет.

Мы ласкаем чужих детей
В полотняных белых рубахах…
Из походной сумки своей
Достаем пожелтевший сахар.
На коленях сидят у нас
И глядят, глядят на медали:
— Где мой папа воюет сейчас?
Вы на фронте его не видали?
В этом возрасте все они
Друг на друга слегка похожи,
И глазенки у них одни,
И родимые пятна на коже.
Сходством редким и я поражен:
Будто здесь, отыскав пропажу,
Кудри белые, словно лен,
Я рукой огрубелою глажу.
Может, где-то в моем краю
Бородатый, небритый дядя
Дочку, ласковую мою,
Так же нежно и бережно гладит.
И она ему в этот час
Говорит и глядит на медали:
— Где мой папа воюет сейчас?
Вы на фронте его не видали?
Фронтовою ночью на шинели
Мне приснился берег золотой.
Волны на песке сыром шипели,
Набегал и отходил прибой.
Было рано. Первый луч рассветный
Обронил сиянье на песок,
И на нем остался чуть приметный,
Легкий след босых девичьих ног.
Ни косынки, на песке забытой,
Ни одежды белой вдалеке —
Только берег, да песок открытый,
Да следы девичьи на песке.
Я открыл глаза, и надо мною
Крик гусиный проплывал в ночи,
Да висели сеткою сквозною
Скрещенные в воздухе лучи.
Читать дальше