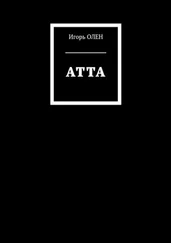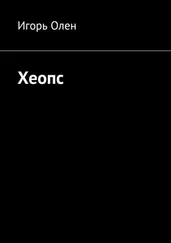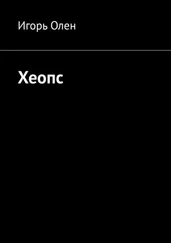117.
Он вывез девушку из таджикского кишлака Нармахо и демонстрировал, как она, гружёная, волоклась за ним как носильщица, а когда обращался к ней, она падала ниц прилюдно. Он называл это всё – «театр».
Факт делает вклад в теорию, что наш мир есть мужской по сути; Ж в нём – прислуга. Женское тело, женские мысли – следствие умыслов относительно женского. Но и женская самоё «природа» – дело идеи. Женское и мужское – не биология, а искусственный акт. Отсюда, патриархат превратен. Пол-человечества стало вроде обёртки члена. Время разрушить пол, о чём Павел рек, что, мол, здесь вся « тайна » (Еф. 5, 32).
Мир – сексуален (т. е. делён на пóлы). Рай – эротичен.
118.
Про эволюцию и другое. Есть «корточкисты» – те, кто справляет нужды на корточках (Лао Шэ). «Приседающие» – используют стульчаки. Последние могут к вам не приехать, если нет стульчака. Не вы интересны (или не столь важны), а условия отправления нужд, в чём явный прогресс «разумного» homo sapiens.
119.
Он признался в любви любимой, что с ним рассталась. Впредь он боялся слов о любви. Слова перестали что-либо значить.
120.
Понял, чтó я искал всю жизнь, почему чужд миру. Я жил в России «социализма», а это значило, что я должен был помнить перечень всех вождей и съездов с их «историческими программами», плакать, вспомнив о Ленине, славить день Октября на праздниках. Я был должен вести себя скромно и представляться в скромной одежде (раз декан отчитал даму-препода за причёску вкупе за брюки в брючном костюме), стричься стандартно, мыслить «идейно». Плюс гнёт семейный. «Добрый» отец мог вдруг оскорбить меня. Я отвык отдаваться радостным чувствам, зная, что кто являет как бы любовь к тебе – через час тебя бьёт, а лозунги, что-де «самое дорогое есть человек» – фальшивые. Потому я искал всю жизнь лишь свобод, хоть кажется, что разыскивал знаний. Но я искал их, чтоб знать свободу – мыслей, чувств, плоти… Понят я не был. Люди боятся вольной свободы, вник Достоевский. Людям дай сытость дрёмных условий. С этими целями создан бог людей – бог морали, кой гарантирует тишь да гладь вплоть до глянца ликов и полированного надгробья. Но есть Живой Бог, странный. Бог Этот требует беспокойств, мук, тягот и небывалых дел. Он от нас ждёт чуда. Жить с Этим Богом – жить в вечных войнах с миром, с родными да и с собою. Но я искал всю жизнь вот такого Бога – Бога Живого. Бог Этот значит: всё-всё возможно. (Чужд я живущим, ибо был должен сгинуть в утробе; се был план Бога. С той поры наблюдаю мир издалёка, из эмпиреев, ибо для Бога я жив условно, вне Его воли. Телом я здесь – душой я давно in aliis mundi).
121.
Жил в Тульской области. На двадцатом году реформ рынок города опустел. Торговцам был установлен сбор за любой метр почвы под их товары. Меленький бизнес в день заработает пару тысяч – их и отдай за сбор. Рынок пал в подтверждение, что у нас время власти наглой, циничной и неумелой, и в доказательство новых порций глумления в добавление к «ваучеру» как твоей «личной доли в нац. достоянии», обернувшейся воздухом, да к раздаче крестьянам бывших колхозов псевдо-наделов, также к Платошкину, обвинившему власть и севшему.
Строй сатрапов и черни, радой подачкам.
122.
Ясность неясного. Привела чему к путному здравомыслая ясная схоластическая традиция вплоть до Маркса, всё объяснявшая, предлагавшая догмы, чёткие, точные, ладно строгой науке? Коль привела – к ужасным, часто поставленным на конвейер казням конфессий, классов и наций, к прессингу жизни. Ведь под любой такой здравой догмой – рваческий интерес.
Рассудок и жизнь – противники.
Здравомыслы не ищут «самого важного», что за мглой очевидностей. Это ищут безумцы: ницше, чжуанцзы и диогены. Их говор смутен, что объяснимо: как дать неясное? Всё в них странно, безмерно, феноменально; всё в них обратное, не как в разуме. В них известные дважды два – солома, зло в них – как благо, ну, а чтó есть – отсутствует, а имеется, чтó немыслимо.
По пословице: верь глазам своим, – редко кто соглашается в здравой памяти и рассудке выйти из яви в области смутного: дескать, там всё ненужное, то, что пройдено в мифах и взято в скобки ради забвения. Но приходит миг – и мы все туда следуем, в это смутное. И находим: в смутном нет ужасов, да и тьмы нет. Там как раз – главное, что гнела и что прятала ясность точных наук, власть правил, стадных понятий и респектабельных постулатов. Вдруг понимаешь горькую просьбу св. Терезы: «Мук, Господи, или гибели».
123.
Читать дальше