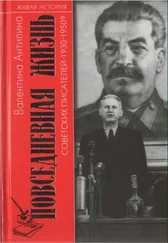Она ложится, закидывает ножку на ножку, пассом фокусника выхватывает из травы горящую сигаретку.
— На поверхность мертвой зыби тогдашнего литературного моря, где непотопляемо торчали всего несколько кораблей — каждый сам себе флагман, — где вперевалку ходили пузатые буксиры и бултыхалось несметное количество утлой мелочи, а на отмели ежедневно выбрасывало трупы самонадеянных пловцов, ты вынырнешь случайно. Везунишка! Два-три сочных описания того блюда, которое всегда в меню, но редко на столе, — это тебя и вынесет. Твою повестуху назовут правдивой.
Женщина оборачивает ко мне смеющееся лицо. Без единой морщины. Даже там, где они неизбежно должны появляться при смехе, их нет.
— Тогда начнется мода на правдивость. Тебе не смешно? Все кинутся расколупывать болячки. И чем больше их кто-то найдет и чем дурнее они будут вонять, тем умудренней и прозорливей будет считаться их расковырявший. Тебе повезет. Твое женское рукоделье, твои кухонные философизмы никого не затронут. По этому пункту не обольщайся. Ты выедешь на броской, антиэстетической ситуации, на этой сантехнике.
Ах как зажмурятся синие от кофе и лекций критики! Откуда такому молодому автору, женщине, известно об устройстве, э-э, клозетов?
Им будет приятно произносить это слово «клё-о-озет».
Мечта блюстителя — похулиганить. Тем более что печатное слово теряет натуральную голизну. Облекается в туманный желатин эстетической оболочки.
Сохраняя «перчик» смысла.
Самые красивые таблеточки, которые я видела, были знаешь от чего? От геморроя.
И они будут сосать, смаковать облагороженный словесный обиход твоей напечатанной повестухи, будут ласкать ее, как циник — простушку.
Но — заметь! Когда они прочтут рукопись, ни один паршивец не даст положительного отзыва. Все возьмет на себя главный редактор, этот чудак малахольный Сигов. Ты пока с ним незнакома.
— Какого черта! — прерывает она себя. Внимательно осматривает ногти. Они светятся розовым теплом боттичеллиевских раковин. Ухоженные, цепкие коготки, ни одного заусенца. Как по чертежу вырезаны полуэллипсы лунок.
— Меня аж слеза прошибла от наивности тех, что считал нашу повестушку плодом дарования, способностью сотворить кусок жизни в заранее обдуманной условности. Брехня собачья! Все в повести было голой правдой. Какой, к дьяволу, талант! Когда прижмет так, что не дыхнуть…
— Учти! — она поворачивается, упирается личиком в ладони — надо спешить. До опубликования пройдет семь лет. О-о, каких долгих семь молодых лет. И сантехника — это будет не самый страшный жернов из тех, что тебя размелют. Выйдет так, что автор повести — написанной и автор повести — напечатанной будут разные люди. Ты станешь мною. Вернее, тебя как таковой не будет. Ты останешься в своей повестухе, как в домовине, а я начну жить.
Я приподымаюсь и оглядываю ее. Она очень красива и страшна этим, как грех.
— Ну что… незабвенная моя… Появишься на встречах с первыми читателями, на разных собраниях и обсуждениях продуманно одетой, с видом «себе на уме». А главное — скромность. Такая большая скромность, чуть ли не родовое достоинство, так и попрет из тебя.
Писательская среда, разглядев тебя, учует это сразу, учует остренький душок возможного скандала. Ты потом поймешь, как у них скучно. Им захочется узнать, свернешь ты себе шею или протиснешься в их ряды? Бабы легко сворачивают шеи. И это всегда всем интересно.
Маленькое женское кораблекрушение — молодой, нежный труп — масса пожилых спасателей — специалистов по искусственному дыханию — пробуждение к жизни в качестве гаремной единицы — но это ерунда, старики безвредны, как дистиллированная вода, в их гаремах заочницы. Тяжек путь в литературу. Кто только на чем и на ком не въезжал, в какой позе не вползал, какие кренделя и прыжки не выделывал.
Она снова гладит себя по бархату бедра. Сколько ей лет? Когда трещит, не больше тридцати. А сейчас, в молчании, лицо жесткое, усталое, осеннее.
— Я видела, от меня получили и еще ждут чего-то. Вылупились как фотограф при красном свете на сомнительный отпечаток.
Ждут чего-то такого, что указало бы, куда меня рассортировать. В урну с подмоченными собратьями? Или в ложе с закрепителем? А сортировать было уже некого. Я вся, с потрохами, была уже не ты. И они быстро раскусили: бабенка стряпает карьеру не на фу-фу. Фокус прицела за пределами написанного. Корни этого цветочка во что бы то ни стало оттяпают нужное ему жизненное пространство. А за умение казаться растением можно дать ей эту возможность — протиснуться. Джентльменам можно подвинуться. С красивой женщиной приятней в тесноте.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)