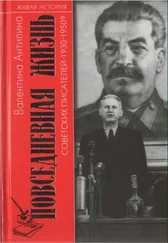— Сволочи! — очнулся Мухаметдинов, застучал черными кулаками по стояку. Потом бросился на Маркуса.
Люблю цветы. Почти бесцветная кашка на редкостно длинном стебле, поворот ее многорогой головки поражает меня. Опускаю ее в воду, невидимую за тонкими гранями хрусталя. И, разъединенные до этого, красота вазы и несовершенство цветка вступают в новое — высшее — единство. Простота кашки придает благородство сосуду, который — ответно — наделяет ее тайным, скрытым от поверхностного взгляда великолепием.
Еще больше мне нравится смотреть на цветы, не трогая их. Как сейчас. Душица, чебрец, васильки.
Весь наш коллектив разлегся на пригорке. Магазинчик стоит на отшибе от поселка. Торговая точка заперта. Калач-замок висит, полупудовый. Звонили, торопили — и ни души. А потом вслед за всеми скажут: «Слесаря — бездельники, лодыри». Факт налицо — лежим. Ну и денек выдался.
Ходили, искали, расспрашивали. Нет нигде, и все! Пропала продавщица.
То ли свистнул — позвал ее в даль далекую внезапный дефицит на городской базе? То ли совсем рядом сидит она за запертой дверью в своем домике с геранью, потчует любезную ей буйную головушку, напевает сладкие женские байки?
Но дефицит и любовь, которая тоже дефицит, — разве только это может увести ее с пустынного рабочего места, не забитого съестными товарами, от разливанно рыдающей старушки трубы?
— Вы не правы, ребята, — говорю я. — Почему обязательно — за блатным барахлом? Или — к мужику! Может, ей все надоело?
Молчат. Знают, какое оно такое бывает. Ждем. Все равно придет. Жарко.
— Марго, куда уходят деньги? — глядя на какую-нибудь дырочку в носке, скорбно произносил Измайлов.
Можно было загореться, выяснить в надежде… Но все надежды, кроме ведущей через жизнь, — скоропортящиеся.
Через год после свадьбы я научилась молчать.
Измайлов повторял, что зарабатывает честные деньги, что мог бы получать еще меньше, а хорошая жена все-таки укладывалась бы в рамки доходов.
Продлевая его рассуждения, можно было предположить, что та жена прожила бы, если б он и вовсе не работал, а она была бы незамужем. Но Измайлов никогда не впадал в крайности. Среднее положение своих доводов он считал наиболее благоприятным для внушений и устойчивым для него самого как мужа.
В моем молодом хозяйстве всегда случался какой-нибудь беспорядок. То подгорала еда, не было выглаженной рубашки, то начинал свистеть и капать кухонный кран. Нужно было бежать, делать заявку на ремонт. Отпрашиваться с работы. Как на иголках ждать слесаря. Смотреть на его скрежещущие инструменты и мучиться: дать или не дать? Если дать, то сколько. И, не дав, и передав, и недодав, рисковать навлечь неодобрение: то сантехника, то мужа. А с обоими нужно было ладить.
То любвеобильная моль, забравшись в просторный шифоньер, съела мужнину шапку. Пришла зима. Измайлов достал шапку, бережно насадил на голову. Подгрызенные шерстинки дрогнули и оползли на плечи мужа клочковатым руном. Измайлов всегда испытывал удовольствие, покрывая свою раннюю лысину каким-нибудь меховым изделием. Он не млел перед модной одеждой, но шапками дорожил.
Измайлов стоял перед зеркалом, на его голове тускло мерцала голая баранья кожа.
Таким он мог бы сняться у Хичкока или всполошить шекспироведов находкой головного убора Йорика. Но он не поддержал моих шуток. Особенно шуток моих он не любил и не поддерживал. Даже — неудачных. Он считал: коль я в ладу с миром материальным, мне незачем протискиваться в щель юмора, ведущую в мир духовный. Сферу мыслительных процессов он, философ, считал своей. Там не требовалось мыть и стирать, жена там ему не была нужна.
Однажды я куплю несколько загадочных для мужа «железяк» и без стеснения, без режущего щеки румянца начну учиться ставить прокладки и подворачивать гайки. Для начала. Научусь и добывать воду из труб, и укрощать ее.
Крошка женщина будет закатывать истерики, вопя капризным ртом о женственности, которую она с таким трудом поддерживает.
Бросив раскроенное платье или вязание, станет уходить в многодневное осуждающее, злобное молчание. Начнет рваться из дома куда глаза глядят — лишь бы весело, лишь бы не так трудно, как со мной.
Она прибьется к компании, где под большими градусами завывались безразмерные стихи, толковалось о неортодоксальном христианстве, лаборатории Спиркина, докторе Моуди, «Лолите» Набокова, где женщины — другое вино общества — цедили из себя начитанность, без устали смакуя «Кама-Сутру», а посреди всего этого демократического безобразия столпом успеха возвышался хозяин, казалось, не только квартиры, а всей жизни, в которой ему удавалось и много есть-пить, и много писать-издавать, удавалось иметь все и поглощать с гастрономически развитым вкусом. В широту его взглядов мог провалиться мир, но проза его была чиста и безгрешна, как дева Мария. За рождеством тут же следовал благовест, и снова — рождество. Печатали его бесперебойно.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)