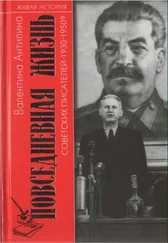Маркус талантлив и дик, как рецидивист. Половина приспособлений, которые он выдумал, могли быть запатентованы, если б давно уже не существовали. Но Маркус не знает, что он рецидивно открывает открытое.
При любой неувязке яростно сквернословит одним скверным словом, обозначающим у него все, мешающее порядку. И неподатливую ржавую пробку, и срамную женщину, и сорвавшийся ключ, и проворачивающийся вентиль.
Я простила ему это пятибуковье как личный его, органический порок. Как горб, например. Слово это не имеет у Маркуса ни падежей, ни чисел, ни, по сути, смысла. Застылое, увесистое, оно — будто еще одно приспособление для работы. Я не делала вид, что не слышу. Не возмущалась. Упаси бог, не занималась миссионерскими беседами. Маркус сам отчасти проповедник. Стоит послушать его сытые рассуждения.
Отсутствие с моей стороны прямого запрета на его скверное слово открыло Маркусу дорогу к экспериментам. Продолжать в том же духе он не мог, коль никто не запрещал. Так появилась новая присказка-заменитель «что интересно». Конечно, он не забыл прежнее слово. Но теперь у Маркуса есть выбор. В самые трудные дни выходит пополам. Это немного, но это сдвиг, внутренний, хотя кажется внешним.
Маркус признался однажды, что так даже ядренее выходит.
Измайлов угодил в точку. Теория малых дел. Малюсенькая польза.
Я думаю: если ты честен, ступай туда, где воруют. Если чист — иди в грязь. Быть того не может, чтобы после этого ничего не изменилось. Раньше это называлось «личный пример». Только с газетой почему-то ничего у меня не вышло.
А Маркус, оказывается, играет на гармони. Идем как-то с сыном из гостей. Несу свою скрипку в футляре. Смотрю — Маркус сидит на газоне, в подпитии, тянет меха, подбирает полонез Огинского. Напротив — собака современно-бездомной породы. Развесила уши. На дворе никого. Десять вечера.
Увидел нас. Увидел футляр. И грянул без перехода татарскую свою тарарайку. Каждому, мол, свое, за чужим не гонимся. Так и наяривал, пока не зашли в подъезд. Он что думает, я на своей скрипке играю Хиндемита? Пригласили сыграть с родителями и их девочкой «Полонез» квартетом. Странная затея. Но дети были в восторге.
Сейчас трясемся вместе в кузове. Гудят, перекатываясь под ногами, трубы, газовые ключи, прочее. Позвонила продавщица — прорвало под полом. Что там, кто знает? Взяли все на случай.
Маркус незаметно отгородил 44-м своим размером, криво схильнувшимся сапогом, участок возле моих ног, чтобы не наехали трубы. У него лицо постороннего. Морозов дремлет. Голова бьется о борт, он не чувствует. Мать, родив, оставила его в приюте на другой год после войны.
Двадцать лет он работает сантехником. Двенадцать из них зарабатывал квартиру. Потом отрабатывал за нее — ведомственная. Хотел куда-то перейти, переехать. Остался. Карманы штанов — что-то искал? — вывернуты наружу. Сидит как жульем пощипанный. Лицо у него — спящего — гораздо старше, словно во сне он осознает большее, чем наяву.
Фарид тоже спит. Ветер треплет жесткие волосы. Говорят, с женой у него налаживается. Скоро уедут от тещи, разменялись. Та против него была с самого начала. Отбывал за воровство. Раньше сядешь — раньше выйдешь. Видно, вовремя посадили. С тех пор никаких дел. И к моим изыманиям халтурных Фарид легче всех относится.
Деньги я отдаю их женам.
Жены, женщины, кажутся мне иногда исполнительным органом, не имеющим власти и волей-неволей решающим те государственные задачи, до которых у государства не доходят руки. Жены всегда знали, например, все, главные и мелкие, способы борьбы с пьянством. Но им оставалось лишь истошно пророчить в каждой кухне, где велись равноправные, один на один, сражения. И противная сторона не оборонялась, а наступала, вкладывая в бои вековечную ненависть к пророку в доме своем, выкрикивающему ересь, какой нет в законах. Деньги я отдаю их женам. Эти рубли могли принести зло. Отобранные и переданные мною, они не принесут и добра. Деньги — ничто.
Фарид качнулся и лег на колени Морозова. Серега, шофер, остановил грузовичок. Перед нами — мосток. Вроде бы крепкий. В толстых упористых быках журчит речушка. После ночного дождя везде грязь, но странно желт, будто помыт, настил. Ни одного следа от проехавших машин.
— Чо встал, ежжай, — говорит Маркус, взглянув на ситуацию.
— Да вот, — скребет щетину Серега, — больно чисто.
Действительно, подозрительно.
Серега спускается с подножки, чавкает сапогами. Видно, как осторожно он ходит по доскам, потопывает, наклоняется, заглядывает вниз.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)