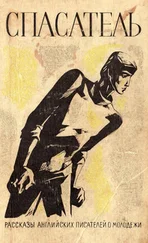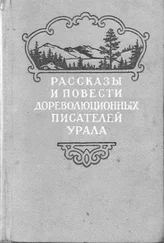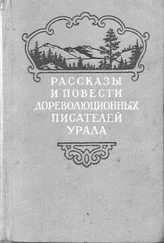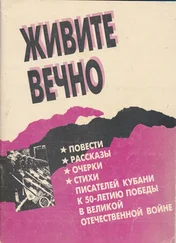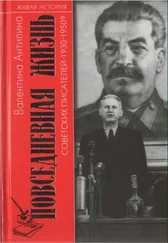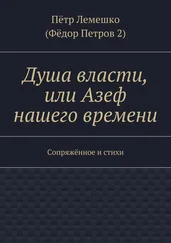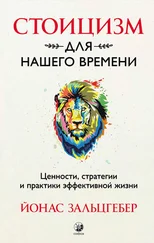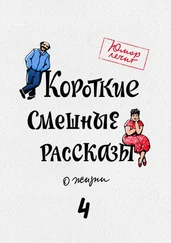У Петра I Измайлов сидел бы в ассамблеях. Непременно по праву руку, оттеснив плебея Меншикова. (Если бы не сгнил в болотах под Питербурхом, язвила я.)
При Алексашках и Николашках смог бы въехать в члены какой-нибудь академии. И сидел бы, думал, рассуждал… (А не ходил бы с сумой по вымирающим от голода волостям.)
— !!! — взрывался Измайлов.
Он боролся за 120 ассистентских рэ в кулуарах университета и постоянно раздражался несовпадением ощущаемых им значительности и интеллекта с той ролью, которую играл в действительности.
Он мыслил, следовательно, существовал. Денег у нас вечно не хватало.
Родители уверили его, что для интеллигента счастье не в деньгах.
О, превратно понятное слово! Оно летит белокрылым, полным чистого значения голубком. Но бьется слово, бьется во врата другого сознания, наконец проникает, проходит, проползает извилистыми путями… Опадают перышки, утолщается шея — и злокачественная метаморфоза! Слово — уже не голубок, а белесый опарыш. Суть его не в радостях свободного полета, а в жирном тепле наземной кучи.
— Счастье не в деньгах? Зачем тогда зарабатывать их? — решил послушный сын и мой муж. В нравственном отношении его родители шли в ногу с духом времени, с остальными трудящимися массами, тоже считавшими, что счастье не там. А коль так, то ничего не мешало массам подрабатывать и некоторым изобилием, а не скудостью, доказывать себе и детям правоту ходячей формулы.
(Вот, мол, Ваня. Папка принес не 150, а 250, а мамка все равно ворчит. Значит, сынок, не в рублях дело.)
Трудящиеся массы вкалывали. Это избавляло их от презрения к металлу, от изнурительных размышлений о счастье и его адресе. В семье мужа (как так вышло?) деньги, чуть большие тех, что получал отец и его мать, считались предосудительными и нечестными. «С трудов праведных не наживешь палат каменных» — такого рода бытовали у них пословицы. Вероятно, это была защита, самооправдание, как многое, имеющее социальные корни. Родители жили по принципу — «не высовывайся». Не высовываясь, они сохранили покой в семье, избежали многих неурядиц, бед и — такова уж обратная сторона медали — в силу этого не могли по-настоящему работать. Настоящая работа требует именно «высовывания». Деньги у них имели одну нравственную значимость. И, уподобляясь людям, приобретали в некотором смысле даже внешность.
Деньги соседа, «отгрохавшего» дачу и поэтому «вора», были «чужие и дикие». Ведь он работал на лесопилке и, значит, крал лес. «Чужие дикие» деньги представлялись моему мужу-ребенку разнузданной оравой мужиков-неинтеллигентов, ведрами пьющих водку и святотатственно заедающих ее громадными шоколадными плитками. Последняя подробность вызывала у маленького Измайлова зависть и слезы.
Свои, честные деньги приходили сами. Ради них не нужно было красть — просто сидеть надо было, как мама, в бухгалтерии и папа — в юрконсультации. Крошки денежки приходили послушно, как примерные дети, принося конфетку, платье — маме или рубашку — папе.
Итак:
1. Воровство — «дикие деньги» — «отгроханные» дачи и шоколад.
2. Тихая работа — свои денежки — мелкие покупки.
Поняв однажды нехитрую альтернативу, на которой воспитывался Измайлов, я удивилась ее глобальной применимости. Следуя ей, можно одинаково вырастить и трудягу и грабителя. То, что порицаемый пункт № 1 при сопоставлении с пунктом № 2 мерк и терялся в ничтожестве и презрении, — это ведь только родители предполагали. Сопоставление могло пойти и наоборот. Пункт № 2 тоже достаточно устрашающ.
Утверждение через отрицание — расплывчато, ибо, предупреждая об одном, отсылает к множеству.
— Счастье не в деньгах. А где?
— Муж не курит, не пьет. А что же это все-таки за муж?
Измайлов вырос под прохладной сенью пункта № 2, женился и стал размышлять. Не о пункте № 1, а о множестве других, о каких он не знал ничего и не знал даже того, как к этому относиться. О жизни.
Он не стал ни вором, ни работником. Потому что и там и тут нужно развивать деятельность.
Измайлов немного работал и немного крал. Незаметно для всех и для себя. Он воровал время, которое тоже деньги. «Время — деньги». «Счастье не в деньгах». Значит, нет его и во времени. Он не ценил время. Он не обожал часов и минут. И ему были заказаны мгновения, которые хочется остановить. Все было для него серо, уныло, как вечность.
Если б украденное им за рабочий день время могло превратиться в купюры, он с негодованием отбросил бы рубль-два, найдя их у себя в кармане и зная, за что они. Он был честен до предела. Только предел у него был совсем рядом.
Читать дальше
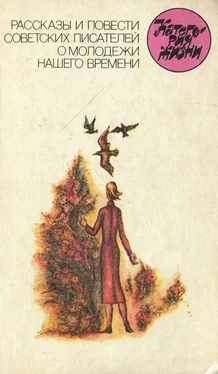
![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)