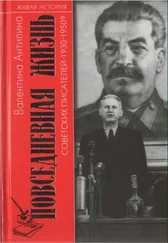Элеонора Корнилова, закончив техникум, работала дорожным мастером и на строительстве мостов, затем на заводе.
Сейчас — после ученья во ВГИКе — оператор Свердловской областной студии телевидения.
Как очеркист и прозаик выступала на страницах местных газет, в журналах «Уральский следопыт» и «Урал».
Дождь падал с крыши сарая измятыми, перекрученными лентами. Ветром их относило в сторону, они изгибались в пролившемся из-за туч свете луны, уходили в темноту. Свет был тосклив своей случайностью, и, пугая мощью, стояла все окружившая тьма.
Женщина знала: пора решиться. Каждой ночью планка поднимается выше, и настолько же укорачивается расстояние для разбега. В духоте сарая, пропахшей сырыми, загнившими досками и потом, тревожно всхрапывали и метались сантехники. Кто-то ногой или рукой задевал газовые ключи, один из них скатывался на заготовки, гремел, гудели трубы, и тогда три головы на секунду приподымались, как от звонка будильника, и снова валились наземь.
Женщина знала: пора…
Никто не мог увидеть ее, и все-таки она запахнулась в старый, короткий, без пуговиц, плащ.
Не оглядываясь назад, она сошла с мокрого порожка. Босая, ступила под струи, шагнула в высокие и колючие заросли зрелой конопли.
Каждая капля, разбиваясь о плащ, вздымалась облаком мелких брызг. Маленькая женская фигура плыла по заброшенному саду водяным пузырем. Стебель крапивы, попав в ноги, полоснул понизу листьями, обжигающим, мстительным семенем.
Женщина добралась до крепкого, без щелей, забора, отдышалась.
Пора решиться.
Страх примораживал руки, не давал разогнуться пальцам, вцепившимся в плащ.
Она вскрикнула и сбросила его.
Нагота вспыхнула в лунном свете, и так же ярко и внезапно загорелись окна большой дачи, возникшей неподалеку из сгустившегося мрака. Зашипев, как раскаленная проволока, в тумане дождя протянулась горящая болотными огнями, призрачная, дымная полоса планки.
Оттолкнувшись исколотыми пятками, женщина рванулась, побежала, ловя расширенными зрачками бритвенный блеск. Он мелькнул перед самой грудью, сверкнул, опалил, чуть не впился лезвием в кожу. Ноги спружинили, непомерно раздвинулись и понесли женское тело по воздуху. Сад охнул, застонал до самых корней, ухватился ветвями за крышу сарая, как за голову, и провалился сквозь землю. Ощущение полета стало падением.
Она опускалась вниз, летела лбом в твердую, облитую бетоном землю и должна была разбиться, как капля дождя, но ее приняли, подхватили жесткие ледяные руки.
Женщина не могла сомкнуть ноги, разведенные и застывшие в судороге прыжка, на которые влезали, словно полые змеи, холодные и тонкие чулки.
Следом, выбивая дробь нетерпения, наделись туфли и дважды щелкнули застежками.
Вылетев из темноты, как кем-то брошенное, к телу прилипло белье.
В уложенные волосы воткнулась блеснувшая камнем заколка.
Женщину понесли вниз головой, мимо ее дачи, она жадно заглянула в окна и увидела: в одном — горящий на потолке камин, перевернутую качалку красного дерева, дымящуюся чашку, на дне которой стоял вверх позолоченными ножками кофейный столик; в другом — никелированные чудеса санузла, парящую в высоте опрокинутую ванну, где голубела, заточенная в овал, не то морская волна, не то часть безмятежного небесного простора.
Женщина рванулась, чтобы сойти, но ее несли дальше, и она догадалась, что должна подтвердить свой прыжок чем-то еще, и, как женщина, предположила — а чем же еще, кроме?
Бесшумно растворились двери капитального гаража. Черное, как рукоять ножа, выдвинулось туловище «фольксвагена», ткнулось в ее руки полукружьем рога укрощенного быка. Она опустила ладони на руль, рывок придавил ее к сиденью. Выезжая на поворот, она ощутила, что покорность ее машины — кажущаяся, что руль сорван.
Перед нею загорелась отполированная мертвенным светом дорога, и женщина увидела.
На сияющее лунное шоссе, где мчится ослепленный сам собою «фольксваген», выбегает, прижимая к груди белую рыбину, маленькая кудрявая девочка.
Ее глаза, широко распахнутые, зеленоватые, смотрят на летящий к ней под гору автомобиль с надеждой, радостью и ожиданием. Зверь, бушевавший в «фольксвагене», взревел, прыгнул на ребенка, в клочья разорвал нежную завесу чистого взгляда.
И вся ночь обагрилась душистой, сладкой детской кровью.
Я раскрываю глаза. Сон еще длится: живая девочка, в грязном платье, с сырыми, бескровными пятнами на нем, шмыгнула за портьеру.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)