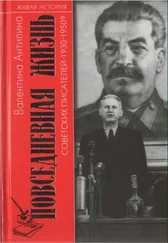Поняли бы меня два народных заседателя — пожилые женщины — по обеим сторонам от судьи? Пьяница, тунеядец — это ясно. Но демагог?
Ведь принято думать, что демагоги вредят, тормозят, зажимают, искажают, втирают очки, наносят урон, но все это — в сфере общественных процессов.
Предполагается, что, приходя домой, они расковываются и становятся обыкновенными, годными муженьками. Что есть за одним столом и спать в одной постели с демагогом вполне допустимо. Что демагог может вредить всей стране в целом, но никак не встанет поперек горла собственной жене.
Не помню всего, что мы оба тогда насочиняли, чтобы отделаться друг от друга. Чета Измайловых так яростно бичевала пороки своего брака, что суд принял нас за глубоко раскаявшихся и все финальное время употребил на попытки примирения.
Настолько дорого было Измайлову его состояние неразоблаченного демагога, что, не моргнув, он объявил себя импотентом, однако желающим сохранить семью ради ребенка. Поставил меня в незавидное положение, крючкотвор. Заседательницы смотрели на меня с осуждением. Эка, мол, невидаль — импотент. И с такими у нас живут. Порядочные, конечно.
Я никогда не думала о том, за что Измайлов мог любить меня. Любить можно за что угодно и вовсе без поводов. Не нелюбовь всегда имеет причину.
Он не любил меня за то, за что вообще не любят ассенизаторов, мусорщиков, сантехников. Эти люди по роду своего занятия иногда приходят к мысли, что только по одной грязи и способу очищения от нее можно судить — ни много ни мало — о всей жизни.
Много грязи? Плохая жизнь. Меньше? Получше. Вот эту ассенизаторскую категоричность Измайлов не выносил во мне. Он пытался объяснить мне красоту произносимых слов, идей, рассуждений, а я, набычившись, глядела в итог, в результат. Измайлов не любил меня за сформулированное Лессингом нарушение эстетической нормы. За то, которое препятствовало бы наслаждению скульптурной группой «Лаокоон», вздумай ваятель изобразить реальную степень страдания отца и сыновей. Каждый демагог — созерцатель. Как каждый, Измайлов стоял горой за всевозможные приличия, условности, благовнешности. Борьба за их соблюдение — есть представление демагога о счастье.
Быть борцом — вполне удавалось Измайлову на службе. И совершенно не получалось дома. Со мной он был несчастлив.
О, как, должно быть, ему недоставало рядом скромной, верной ему и его принципам, любящей подруги. Той, у которой не видно трудов, но всегда уют, но тактичное понимание его усталости, но свежее белье, но вкусный обед. Как, наверное, он хотел видеть обращенное на него одухотворенным зеркалом мягкое, доброе женское лицо с неудручающим подобием улыбки, одинаково возможной и при боли, и при радости, лицо, освещенное тихим светом кротости и мудрости, терпеливое, наипрекраснейшее из лиц русских женщин, всепрощающее и всем лучшим наделяющее возлюбленного супруга. Лицо, разребячившись пред которым, Измайлов вспомнил бы о сотнях других, несчастливых женщин, избиваемых пьяными мужьями, о женщинах, не имеющих подарков к 8 Марта, вспомнил бы и сжалился до слезливого умиления собой — причиною счастья той, что смотрит на него так нежно и преданно. О, какие бы несметные силы черпал он для своей деятельности из брака с такой женщиной! Я советовала ему — вырезать жену из журнала «Работница».
Мимо окон конторки с грохотом проезжает тележка с ацетиленом и кислородом. Они не зайдут сюда. После экспроприаций ребята дуются. Мягко говоря.
Так и есть. Заскрежетала дверь мастерской. Я положила там на видное место заготовки для сгонов и рядом лерку — лобовой намек, чем им заняться. Заявок по участку нет. Но идет рабочее время.
Набиваю сальники в кран-буксы. Тонкая асбестовая подмотка, вертлявые штоки. Не так страшен черт…
Конечно, если б той девочке, какой я была десять лет назад, во сне приснилась ее теперешняя работа, она, наверное, неделю ходила бы под впечатлением ночного кошмара. Возможно, даже восемь лет назад. Когда я работала в маленькой газетке «Призыв».
В первое время глаза главного редактора Ивана Максимилиановича — за толстыми, четырехплюсовыми стеклами очков — казались мне мудрыми. Была в них некая отстраненность от суеты. Отчество тоже, без его ведома, располагало. В нем слышался голос свободомыслия, запах трав Коктебеля, шорох платья юной Цветаевой — бог весть что взбредет на ум выпускнице университета, смотрящей на поцарапанный письменный стол, из-за которого кто-то накануне ушел на пенсию.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)