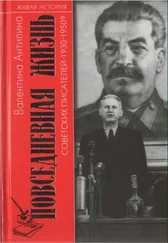Рояль, оказалось, на даче. В полном здравии. О бархате, как о мелочи, редактор промолчал, разрешив моему воображению обвивать этим материалом фасады театральной дачи и выстилать им полы в ней, так как было очевидно, что и бархат — там же.
Пых-х — обдавало меня нестерпимым жаром кипевшего белья. Раскаленная крышка-щит жгла ладонь. Защищаясь ею от пара, я вонзала деревянное копье в булькающие, попутанные друг с другом тряпичные комья, топила их, и они снова, надутые силой мыльных пузырей, выползали и шипели, грозя ошпарить.
— Почему так случалось, что, о чем бы я ни бралась писать, даже на нежную тему о воспитании детей в дошкольных учреждениях, я все равно в конце концов неотвратимо натыкалась на воровство? И снова была должна молчать?
— Почему вы напомнили мне, Иван Максимилианович, что два года назад у вас уже был предынфаркт?
Мне жаль людей, страдающих сердцем от солнечной активности. Но ваше-то сердце замирало от страха перед светилами куда менее удаленными и несравнимо мелкими. Не все болезни имеют благовидную причину. За насилующий ваше трусливое сердце духовный развратец, в котором так удобно жить при соблюдении тайны, надо бы заключить вас — принудительно — в соответствующий диспансер, потребовать поименный список бывших с вами в контакте и лечить их, молодых, и может, еще не безнадежных.
А вам нужно не горевать, а утешаться тем, что человек смертен, иногда внезапно смертен, и это счастливое свойство разом освобождает от страха. Как окончательная правда.
Газета выплюнула меня без фанфар, без фимиама, и сама я тоже не жалела себя. Хотя какая-то часть меня ужасалась сантехническому будущему, тосковала и звала остаться. Она всегда страшилась перемен, лила слезы, умоляла о прощении, покое, примирении, постоянстве.
Пела ли я на выпускном вечере в школе — она невпопад присоединяла свой рыдающий голосок. Уезжала ли из родного города, прощалась ли с людьми, которых, вероятно, не встретить больше, — крошечная женщина сжимала мое сердце, как комок проплаканного платочка, задыхалась от горя, от потерь и билась о меня остальную, словно о стену.
Я росла, мужала — она с каждым годом становилась все меньше. Она узнала много «нельзя» и «надо», сделалась затаенной и осторожной, как ребенок-сирота, живущий сам по себе. У нее не было никого, кроме меня. А мне было некогда заниматься ею. И она пошла замуж.
Вот ее, маленькую мою мещаночку, мне пришлось утешать. Неновыми рассуждениями о чистоте и грязи.
— Грязь не в возне с грязью. Грязно не замечать грязь, — говорила я ей. Знала, малютка-женщина мечтала о нарядных, летящих, словно на сквозняке, платьях. Она была красива и мучилась этим. Ей хотелось, чтобы мужчины смотрели ей вслед, чтобы кожа ее была розова и свежа, чтобы вокруг были цветы, картины, ласковые, снисходительные люди. А как она любила изящные, веселящие ножку туфельки! Я только однажды купила ей такие.
— Не бойся. Наружной грязи нет. Нам нужно жить так, чтобы каждое наше дело было завершено до конца, а значит — чисто. Ты же видела — можно привыкнуть к грязи. Поэтому нам с тобой нельзя привыкать.
Шепотом я читала ей Бодлера: «Есть запах чистоты, он зелен, точно сад…» Она всхлипывала.
Ей нравился Евтушенко.
Я не могла оставаться в газете. Я вся смердела от несделанного, обойденного, замолчанного.
Это длилось секунду, никак не больше. Мои пальцы успели сделать только один виток подмотки. Ноздри вздрогнули, услышав далекий мертвый смрад рыбьих внутренностей, взгляд сузился в точку.
…Стремительно увеличиваясь, точка летела с листа дерева за окном. За точкой, как за сильнейшей линзой, тяжко рождая друг друга, рвались взбухшие клетки, пульсировала цитоплазма. Собственно, это разрушались буквы, слова. Они сливались, образовывая другое: уже не слова, а звук, чье-то пение, всхлипывание и скрежет. Вдруг распахнулась полутемная комната. Под потолком сушились пучки чистотела. В углу громоздилась бугром куча красного картофеля. На грязном полу сидела и плакала кудрявая девочка.
Она долго играла в тазу с белой живой рыбиной. Рыба терлась о руки, сыпала в ладони серебрушки чешуи и вот-вот должна была сказать влажным холодным ртом что-то тайное, какую-то удивительную, неслыханную, неведомую правду, но пришел дед, отругал девочку за мокрое платье и тут же, на глазах, зарезал рыбу черным ножом с треснувшей рукояткой.
За минуту до этого девочка пела: «…вот какая рыбонька в гости к нам пришла, белая, чистая и большая». А теперь убитая лежала на столе, в ворохе отвратительно пахнущих смертью кишок, и молчала. Девочка — в наказанье — скребла сальным мотком спутанной проволоки по днищу глубокой закопченной сковороды, плакала. З-з, з-з-з — скрипела проволока.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)