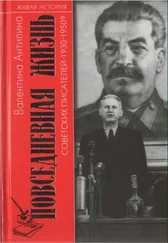Иван Максимилианович устало помотал головой, будто какая-то мысль, как муха, кружила возле него, но, естественно, не могла залететь.
А должно ли было мое решение коробить и шокировать главного редактора?
Что же он… неужто всерьез думал, что жизнь так и будет вращать колесами по наезженному пути и никто не заметит, что начался юз? Что будут приходить в газету молодые, а Иван Максимилианович, застращав их заслугами и подвигами его поколения, подомнет именами, убедит, что молодость — порок, иждивенчество, сиденье на шее отцов-матерей, и оттого молодые не заслуживают ни места в жизни, ни уважения, удел их — послушание, полное подчинение авторитетам и ученье уму-разуму. Неужели он впрямь предполагал, что никто никогда не заартачится, не пойдет напролом, не крикнет «слазь, идет наше время», не наделает шуму и шишек себе на лоб? Или, как это сделала я, не уйдет, скандально хлопнув дверью?
Почему он, редактор газеты, был так убежден в безгласии и повиновении?
Наверное, потому, что подобный образ мышления был общеутвержденным.
Старость — это награда. Но Иван Максимилианович не видел в этом изречении того смысла, который заложил автор. Старость — как отдых от трудов, патриаршее удовлетворение от того, что род продолжается, крепнет и развивается, что к кормилу встали потомки, молодые, сильные, им — дедом и прадедом — порожденные и воспитанные, за что долгая ему честь и хвала. Нет, главный редактор имел о наградах прямое понятие, и оно шло враскол с другим — старость. Чтобы иметь почет, награды и уважение, Ивану Максимилиановичу нужно было во что бы то ни стало не стареть. А поскольку старение неотвратимо, главный редактор просто не признавал его за собой, тянул и продлевал время своего участия в делах, которые были ему не по плечу, и не допускал к ним молодежь, убивая этим сразу двух зайцев.
Доказывал свою незаменимость и полную инфантильность молодых.
Отчего я ограничилась словом «надоело»?
Из газеты я увольнялась. Меня считали ненормальной. Самое, казалось бы, время выложить все — в настроении самоубийцы, в том исключительном положении, когда можно все сказать и даже написать что угодно — прощальное.
Как мне был понятен тогда жест протеста в виде харакири. А вот взять и молча вывалить на ответственный стол свои кишки, потому что все разговоры бесполезны. Потому что все в жизни оскорбленного — причина его смерти. Но я решила жить. Что менялось в моей жизни, кроме специальности? Сама я оставалась прежней. Мне не был страшен крах взглядов и представлений, связанный с переменами. А вот чужого краха всегда стоит подождать.
В полной горячего тумана кухне (в бачке на газу отбеливались простыни) я ожесточенно мыла и скребла посуду. В те дни предметы личного хозяйства достигли наивозможной чистоты. И с доступной кухне откровенностью произносила обличительные речи.
В черный затылок сковороды — шмяк! — ком чистящей пасты, он же вопрос редактору.
— Почему завернули мой материал о Варламовском свинооткормочном комплексе? Пять лет вся область ждала, когда же прилавки проломятся от «своей» свинины, и вдруг — пшик! Глухота! Молчание! Все псу под хвост! Все испарилось — и капвложения, и репортажи о ходе строительства, и обещания, и соблазнительные прикидочные килограммы на душу населения, читая о которых народ щелкал зубами. Пропал и сам комплекс. Куда?.. И я, и вся область знали ответ на этот вопрос. Никто не спрашивал, и, естественно, никто не отвечал. Словно комплекс, как предатель-диссидент, удрал за границу. Со всеми народными тыщами. И лучше — молчать.
— А ну-ка скажите, — садистски втирая едучую смесь в лицо глубокого блюда, — где моя заметка о чуде исчезновения рояля из театра?
Я потянула тогда «веревочку», и на ее конце, за великаном музинвентаря, за несколькими тюками бархата, также загадочно пропавшими, показались десятки кубометров пиломатериалов, из которых зав. постановочной частью театра возвел не декорацию, а вполне реальный, всамделишный дом-крепыш о шести комнатах.
Не исчезнувшие ценности, а нашедшийся дом почему-то напугал Ивана Максимилиановича. Он позвонил куда-то и изменился в лице еще сильнее. Узнал, что в этом доме неделю отдыхал кто-то такой, что и вымолвить страшно. Через три дня стало известно, что дом этот вовсе не дом, а творческая дача всех артистов, построенная в согласии со всеми законами.
По окончании «следствия», произведенного газетой «Призыв», Иван Максимилианович еще целый день безжизненно улыбался, как вдова на свадьбе дочки-перестарка.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)