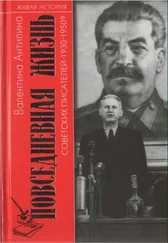Даже в расслабляющие минуты совместного погружения в музыкальные отголоски спрос и предложение между мужем и мной не совпадали.
Зато маленькая кокетка всегда и легко ладила с Измайловым.
Казалось, каждый из них, мягчея и раскисая, снисходит до другого. Снисхождение всякий раз начиналось с того, что муж напрочь забывал обо мне. А крошка женщина — обо всем, что было свойственно Измайлову как человеку.
Их сближение не было восхождением. Торопясь, оно катилось под гору, теряя в суете снижения все отличительное от тысяч других. И где-то на дне, чувствуемые одним осязанием, умалившись до признаков пола, они становились наконец достойными и равными: крошка женственного, слипшаяся с крошкой мужественного. Они всегда спешили, две крошки на губах Кроноса.
Меня же, третью в их постели (ни сесть, ни встать, как связанный Гулливер; поворот головой — и волосы больно натягивались на колышках-пальцах Измайлова), щадя, накрывала онемелость, даря состояние неприсутствия.
В темноте оставались звуки — единственные опоры, по режущим пикам которых можно было уйти. Исчезнуть.
Прыжками — через зыбкое, чавкающее болото, жадно засасывающее и отрыгающее из плодоносных глубин скользкую влагу. Через частый осот вдохов и выдохов, отравленных испарениями дезодорантов.
Бегом — к далекой лунной полоске, ввалившейся через окно спасительным аншлагом ночи.
Скоро, скоро будет утро.
Тогда самым близким в музыке было для меня ощущение предшествующего духовному итогу огромного труда. Труда, безусловно, физического.
Я слушала и слышала, как каждый великий с криком боли, ужаса и отвращения обнаруживал в себе животное. Как сдирал покровы чуждой плоти. Как зверь выл в нем, сопротивлялся и хотел быть. Как в труде, только в труде делался человек.
Все бетховенские, например, симфонии — об этом.
Измайлов же относил формулу «Труд создал человека» к очень далеким временам.
К животному, к той искомой обезьянке, чьей задачей было — вкалывать, видоизменяться, терпеть голод, холод, снова вкалывать в бессчетных поколениях, чтобы он, Измайлов, наконец создался и ходил бы в филармонию.
То, что труд уже создал человека, само собой закрывало для него тему. Измайлов знал: он — человек. Слово это, понятие, давно и безнадежно витало над ним, как отчаявшийся голубок над пепелищем. Измайлов не знал, что процесс превращения длится. Будет длиться всегда. Для того, кто хочет быть человеком.
А в сущности, все симфонии — неоконченные.
Слышу: Маркус — Морозову, шепотом:
— Что интересно… Я про такое в книжках не читал. Только закинул… Грузило не успело опуститься. Сразу — ррраз! Веришь, нет, как ждала, чтоб я ее зацепил. Веду ее, а она зырит, как судья, бельмы выпучила… Харя такая зеленая, в тине… Лет полста с гаком, не меньше. Старая… Идет, собака, как бревно, только бери. А подсака у меня не было. Подвел ее… Хвать, дурак, руками… Она мне хвостом по соплям — и ушла. Матерая, гада. Не рыбак я, не совладал… Не понравился ей. Природа, блин…
Морозов — Маркусу, шепотом:
— Не ори, Маргариту разбудишь. У меня тоже было. Большую упустил…
Что говорит дальше Морозов, я не слышу.
…Чувствую порывистое движение воздуха, холодным веянием опахнувшее меня. Не птица ли пролетела? Оборачиваюсь.
Около меня, на пригорке, сидит маленькая розовокожая женщина. Такая крохотная, будто я ее вижу в перевернутый бинокль. Она свободно раскинула по траве стройные ножки в изящных туфлях.
Улыбается и проводит кончиком язычка по краям отполированных ногтей.
— Ни хрена ты еще не понимаешь вот что, — говорит она нежно. — Конец света! Никаких сил нет слушать твою ахинею. Да, да. Весь твой жар правдоискательства, все потуги, все поиски — остывшее приторное пойло. Разве что прополоскать рот. И выплюнуть. Вместе с памятью о себе, такой чистой и честной. Тьфу! Забудь, как первую ночь. Ее не за что помнить, нашу первую ночь. Не правда ли?
Она сплевывает, оглаживает розовый бархат платья на бедре. За этим жестом — ласки не одного, многих мужчин.
— Конечно, — отвечает она. — Не Измайловым же это кончается. Ты еще много узнаешь любви.
«Спасибо, — думаю я. — Как раз это сильней всего меня беспокоило».
— О-о! — смеется она. — Какая неприступность! Хочешь, я расскажу тебе, как это случится однажды, потом еще, еще. Рыбонька моя, тебя будут любить.
«Не нужно».
— Правильно, — легко соглашается она. — Загадочность красит. — И меняет тон на деловой.
— Когда ты соберешься все это написать? Ну-ну… не делай козье лицо! Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Писать — это как мстить. Тебе осталось только накорябать на бумаге. Хорошо бы пораньше. Тогда и у меня сдвинулись бы сроки. Мне не повредил бы годок-другой. Ведь все начнется с этого недоноска. С твоей куцей повестушки.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)