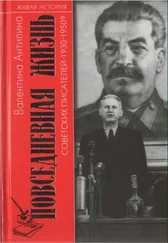И работал по старинке, как привык за долгие годы полетов и как было устроено в его жизни. А жизнь Деда протекала спокойно, не водилось в ней, как он сам определял, никаких перепадов: жизнь да и жизнь. Сразу после войны он женился, но вскоре разошелся: то ли жена не выдержала молчаливости Деда, а возможно, ему надоела ее трескотня. Женился еще раз, и появились дети: девочка и мальчик. Выросли, и теперь у дочери своя семья и свои дети, сын пока что не женился и, закончив летное училище, работал вторым пилотом на поршневом. Словом, все шло так, как и должно было идти, и раньше Дед не особенно задумывался над этим, а вот теперь, когда появился Венька, стало его что-то тревожить. Не понимал Дед, когда Венька так легко говорил:
— Жизнь летчика известна!
Или убежденно заявлял, что не за горами такое время, когда люди перестанут жениться.
— Так! — говорил Дед и удивленно смотрел на Веньку.
— Именно так, — продолжал Венька, — не будут, и все. Отпадет такая необходимость как пережиток.
Он, видать, смутно представлял себе такое время, и когда Дед спрашивал о детях, отвечал неохотно:
— Ну дети… Дети будут, куда от них денешься.
— Без детей жизнь на планете прекратится, — вмешивался в разговор штурман, изрекавший обычно только неоспоримые истины.
Был он маленький, лысый, с тощим, будто выболевшим лицом и хитроватыми глазками. Дед его отчего-то недолюбливал, хотя специалистом тот считался отличным и, летая в экипаже год, ни разу не ошибся, а следовательно, не мог, подобно другим штурманам, воскликнуть: «О, потеха! заработался; три и пять сложил и получил девять!» И весело добавить еще несколько точных слов, которыми в авиации с большим чувством объясняют подобные ошибки. Нет, этого ему не было дано, у него аккуратность стояла на первом месте, аккуратность и исполнительность. Казалось, появись завтра приказ писать справа налево, и штурман начнет исполнять его. Но именно он часто «подкусывал» Веньку, когда тот горячился, злился на задержку рейса, на то, что время тратится впустую.
— Сиди теперь и жди погоды, а нет чтобы поставить современную систему на аэродроме. И мы летели бы и людей бы не мучили…
— О людях теперь никто не думает, — равнодушно кидал штурман, — потому что они сами о себе не думают.
Тон у него был такой, что спорить никто бы не стал, у него и не слова выходили, а булыжники — покатится и придавит.
— А должны думать, — не унимался Венька и зло смотрел на навигатора. — Иначе зачем тогда создавали такие аэропорты, бетонки строили и спят теперь в залах ожидания на креслах да на батареях.
— Сами создавали, сами и спят, — так же невозмутимо изрекал штурман, чувствуя себя, очевидно, этаким отрядным философом. — Вот они, которые спят, и должны были придумать систему для слепой посадки. Но у себя они не особенно ворочаются, а приедут в порт — и то им подавай, и другое не так. А-а! — протянул он разочарованно. — Что там балакать!
Венька не знал, что ответить на это «A-а!». Выходило, в словах штурмана скрывалась доля правды, и вот это злило его еще больше, он понимал — так не должно быть.
— По-дурацки получается, — говорил Венька. — Кто бы что не доделал, а отдуваться приходится летчикам.
Дед молча слушал перебранку и думал, что в авиации, да, наверное, и в жизни легче таким, как штурман. Наконец и он не выдержал:
— Загибаешь, навигатор.
— А что! — вскинулся тот. — Неправда разве? Говорю как есть.
— Точно, — согласился Дед. — Но правда твоя злая.
— Я знаю, за правду нигде не любят, — штурман сделал вид, что обиделся. — А она и должна быть…
— Да брось ты! — оборвал его Венька. — Любят, не любят! Что мы, на собрании! Тебе сказано о другом.
Венька и штурман еще долго спорили, но так ни к чему и не пришли. Дед молчал, не встревая, и думал об авиации, в которой порядка не прибавилось, а строгости, все больше возраставшие, касались только летчиков. Ему вспомнилось, как он просил сына не идти в училище, поступить в техникум или куда там еще люди поступают. Но сын заупрямился и настоял на своем, и теперь Деду представилось, сидит он вот так же в салоне самолета и рассуждает о жизни. От мыслей о сыне, о будущем, которое Дед представить себе не мог, как ни старался, ему стало тревожно и подумалось о том времени, когда сын останется один на всем белом свете.
Была зима, морозный февраль.
С вечера никак не могли вылететь в Москву — туман.
Сидели в комнате отдыха, слонялись по длинному коридору от штурманской до метеостанции, трижды принимали решение вылетать, спешно бежали на самолет, который механику удавалось держать нагретым, сидели там, ждали пассажиров, слушали погоду и переговаривались с диспетчером руления. После — высаживали пассажиров и снова бродили по коридору. Туман шел волнами, видимость прыгала от «двести» до «девятьсот», и Дед сказал, что аэродром загрипповал и его лихорадит. Наверное, так оно и было, но лихорадило не только аэродром, но и командиров экипажей: они никак не вылетали, опасаясь, что такое решение может стать последним в их авиационных биографиях.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)