Месяцы, проведенные в «Скрабз» [208] Лондонская тюрьма «Уормвуд скрабз».
, были сродни пустыне во времени: они не отличались какими-либо особенностями, если не считать строгого, аскетического режима, и сейчас трудно вспомнить, чем я занимался в течение того или иного дня и даже того или иного месяца. Разумеется, я уже приобрел некоторый опыт жизни в пустынях, даже вкус к таковой, и научился пользоваться внутренним резервом фантазий и мыслей, как верблюд собственным жиром. Там я превратился в некое подобие жвачного животного. И тем не менее, жизнь в тюрьме оказалась не совсем такой, какой представлялась мне — ошеломленному и униженному — в первые часы. По правде сказать, несколько недель время летело быстро, и по существу лишь в последний месяц, когда уже чувствовалась близость свободы, каждая минута стала казаться томительно долгой, почти бесконечной. Как раз тогда мне не давал покоя один мысленный образ, в воображении то и дело возникали молодые зеленые деревца — березы и осины, — оживавшие благодаря весеннему ветерку, но видневшиеся как бы сквозь стекло, покрытое морозным узором, словно в тумане, в полной тишине. Однако к тому времени уже было совершено подлинное злодеяние, у меня отняли нечто большее, чем свободу.
На первых порах мне потребовалось умение держать нос по ветру. Казалось, я снова очутился в жестоком и таинственном мире школы, где снова приходится учиться смягчать или отражать удары его энергичных, мстительных властителей. Однако вскоре обнаружилась существенная разница: если школьники обязаны бороться за первенство и при этом сотрудничать с властью, становясь таким образом просвещенными людьми и вместе с тем ортодоксальными членами общества, то нас, заключенных, объединяла наша неортодоксальность — все мы были изгоями общества. Зачастую это приводило к последствиям двоякого рода. В тюрьме сохранялись многие характерные черты внешнего мира: классовые различия, отвращение к некоторым преступлениям, связанным с насилием и жестокостью, и травля тех, кто был за эти преступления осужден. Но в то же время, коль скоро все мы были преступниками, притворство, принятое в обществе, отнюдь не поощрялось. О том, чтобы делать вид, будто ты не любишь мужчин, не могло быть и речи; а поскольку многие обитатели нашего крыла совершили преступления на сексуальной почве — то есть, если употреблять тамошнее окказиональное слово, были «окказионалами», — мы относились друг к другу с пониманием и сочувствием, что очень помогало выжить в той обстановке. Разумеется, это не могло, словно по волшебству, избавить от чувства вины и стыда, но довольно многих из нас — причем далеко не всех в первый раз — арестовали за участие в преступном сговоре или подстрекательство к совершению непристойных действий, то есть за близкие отношения (нередко основанные на взаимной пылкой любви) с несовершеннолетними мальчиками. А многие заключенные, разумеется, и сами еще, в сущности, были детьми, достаточно взрослыми только для того, чтобы услышать зов сердца и угодить за решетку. Наших в тюрьме было больше, чем когда-либо прежде — как прямой результат нынешних жестоких чисток, — и не счесть было рассказов о вероломстве и обмане, о подкупленных и солгавших свидетелях, о мнимых друзьях, выдавших соучастников и отпущенных на свободу. Подобные рассказы непрерывно передавались у нас из уст в уста — причем в распространение этих банальных историй, поразительно схожих между собой, внес свою скромную лепту и я.
О моем деле — вероятно, из-за моего титула — судачили чаще, чем о большинстве прочих, хотя и далеко не так часто, как о деле лорда Монтегю [209] Одно из громких уголовных дел против гомосексуалистов; возбуждено в ходе так называемой «большой чистки» 1953 — 54 годов.
, деле, в котором обнаруживаются те же признаки беззакония и лицемерия, что и в методах, применявшихся во время моего ареста и последующего судебного преследования, но гораздо более очевидные ввиду продажности полиции. Мои товарищи по заключению были уверены, что я с ним знаком, и наверняка представляли себе, как мы обмениваемся номерами телефонов молодых людей в буфете палаты лордов. Нелегко было убедить их в том, что не все пэры — как, впрочем, и не все педики — знают друг друга. И все же в его деле — а отчасти и в моем, — кажется, есть какой-то смысл: даже чинные британцы с их недоверием к людям, всю жизнь поступающим инстинктивно, с их склонностью следовать догмам и традициям, и те уже считают, что личная жизнь человека — это его дело, больше ничье, и что нужно изменить закон.
Читать дальше
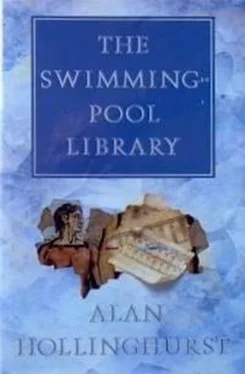
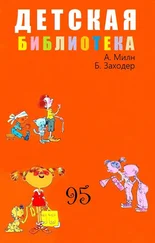


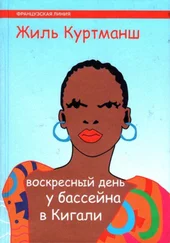
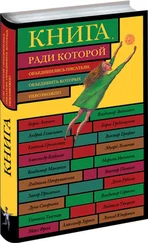


![Кэролайн Кин - Расследование на вечеринке у бассейна [litres]](/books/432608/kerolajn-kin-rassledovanie-na-vecherinke-u-bassejna-thumb.webp)
![Агата Кристи - Лощина [= Долина; = Смерть у бассейна] [litres]](/books/436356/agata-kristi-lochina-dolina-smert-u-bassejna-thumb.webp)


