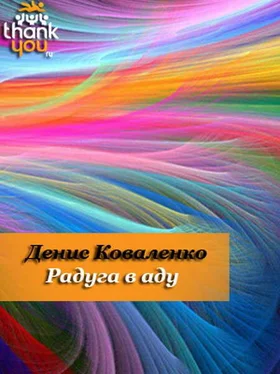— А что же тогда рай? — в захватившем его самого волнении, спросил Вадим.
— Рай? — странно повторил монах. — Рай… да вот он, оглянись.
Вадим, не понимая, взглянул на него. — Наш мир, наша земля и есть рай. Избавься ото лжи — и все. Проще говоря, протри глаза.
Невольно, Вадим протер глаза. Мир не изменился, все тот же, в блеклом оранжевом свете, пустой салон автобуса, ехавшего неизвестно куда, за окном старые ветхие дома окраины, автобус все так же останавливался на каждой безлюдной остановке, в салон никто не входил, и во всем салоне только этот странный монах, Вадим, да, уже уснувшая старая женщина-кондуктор.
— Я не понимаю, — в растерянности произнес Вадим. Еще эти старые неизвестные дома, — где он?
— Тогда будет рай на земле — глядя прямо перед собой, произнес монах, — когда каждый будет чувствовать себя виноватым перед всем и всеми, даже перед самой маленькой птахой — это один великий старец сказал, — ибо и у нее есть душа, которая свободна и которую сотворил Бог. Ведь мы уже жили в раю. Очень давно это было. Мы тоскуем об этом потерянном рае, но вместо того, чтобы раскаяться, почувствовать всю нашу вину перед миром, мы продолжаем лживо самоутверждаться. Мы поедаем друг друга, унижаем, убиваем, все с тем же оправданием, что не мы такие — мир такой; не хотим поверить, что наша в том вина. Оправдание — вот наш земной ад. Раскаяние — вот прямая дорога в рай. — Уже восторженно говорил монах.
— Вы больной? — вдруг глянул на него Вадим.
— Что? — точно опомнившись, спросил монах — А-а, — понимающе кивнул. — Наверное, ты прав. Не стану тебя убеждать, что наоборот выздоровел. Ты вот послушай, я ведь не всегда такой был. Я по молодости отчаянный был. Спортом занимался, боксом, карате, крепкий был, сильный. Ничего не боялся. Только ненавидел всех. Денег много было, шальные все деньги. Женился. С женой, как с какой-то тварью обходился. Дома и не жил. Пил много, работа у меня была такая — людям зло делать; и пил оттого, что знал, что зло делаю. Жена беременная перед дверью поперек ложилась — из дома меня не пускала, через нее переступал и уходил… А потом что-то случилось со мной. На Пасху случилось. Утром с женою и с сыном в церковь пошли. Я с коляской, где сын мой спал, на улице остался, а жена в храм вошла. Бога я всегда боялся, но в церковь не любил ходить — от того и не любил, что боялся. Когда с женой в церковь ходили, я всегда ждал ее возле входа. Внутрь редко входил. Страшно. Видел лики, и в дрожь бросало. Не оттого что страшные они, а… в глаза их боялся заглянуть. Так и казалось, что в самого меня они заглядывают, в самое нутро — вот он где был страх. Ничего не боялся, как в эти глаза нарисованные глянуть. И в этот раз стою. Сын спит себе спокойно, я от коляски отошел покурить, чтобы не дымить на сына. Бомж какой-то подошел, видно парень молодой, лет двадцать пять; грязный, из носа омерзительная козявка торчит, зубы все через один, и все гнилые, но манерный весь и голос вкрадчивый. — Угостите, пожалуйста, сигареткой. — Послать бы его, но, как-то, праздник, Пасха; достаю сигарету из пачки, протягиваю ему, самого от брезгливости трясет. Сигарету взял, прикурить спросил и все в глаза мне как-то ласково заглядывает, как-то странно ласково. Думал, отдать ему зажигалку, лишь бы ушел он поскорее, но зажигалка слишком дорогая, и, к тому же, подарок. Руки я вытянул, прикурить ему даю, а у самого руки дрожат — не дай Бог эта мерзость коснется меня. — Руки-то у тебя дрожат, — замечает он мне, и таким тоном все, каким-то подозрительно манерным, и… точно я сам напросился ему прикурить дать. Наконец, получилось, огонь чиркнул, прикурил он. Выдохнул дым, стоит, смотрит на меня, и спрашивает: А ты голову каждый день моешь? — и улыбается все так… вкрадчиво… точно снимает меня, как шлюху снимает. До меня, как дошло это… — А что это ты тут делаешь? — все спрашивает, и ручки так еще сложил, затянулся, дым струйкой выпустил, продолжает — А я вот гуляю. А у тебя лицо красивое, и руки. — У меня глаза кровью налились… ничего не вижу, только козявку эту грязно-зеленую омерзительную из носа его торчащую, и улыбку гнилую. Не то, что ударить его… стоять с ним — такая брезгливость. Отшатнулся я. Он хмыкнул, плечиками повел. Я коляску в охапку, и, в три прыжка, через все ступени, а их, до дверей храма, ступеней тридцать. В храм — аж влетел. Но сына не разбудил. Коляску ровно держал, крепко. И такая благодать меня охватила, объяснить не мог, радость какая-то. Как раз священник возвестил: Христос Воскресе! — У меня аж слезы хлынули. — Воистину воскресе! — отвечаю. Жена меня увидела, понять ничего не может. Случилось во мне что-то. Я и сам не понимал тогда — что . Только когда вечером с друзьями-подельниками своими встретился… Брезгливость, та самая , брезгливость; хоть и лица все мне были знакомы и чистые все лица, только мне все эта грязно-зеленая козявка мерещилась, точно в ней, в мерзости в этой сально-зеленой, вся моя жизнь вырисовалась. Месяц целый боролся с наваждением этим, в церковь стал ходить, только там и успокаивался. Что это было, не понимал я. С батюшкой разговорился, всю свою жизнь ему рассказал, и про мерзость эту. Объяснил он — что знак это. В монастырь Задонский предложил съездить. Так я и остался там, послушником, так и служу вот Богу, уже восемь лет, как минуло, многое я за это время понял, многое осознал.
Читать дальше