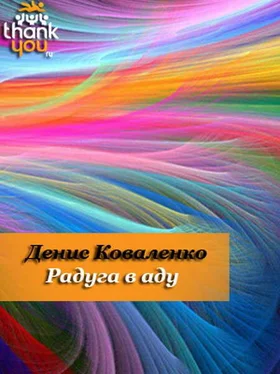Вадим вошел в ворота церкви; возле церковного киоска стояла очередь, все женщины. Неуютно было стоять вот так, в очереди, где одни женщины. Хорошо, что хоть говорить ничего не надо, просто отдать записочку, которую сестра написала, деньги, и все. Женщины, когда подходила их очередь, долго называли имена тех, кого хотели помянуть, женщина в киоске записывала имена в тетрадку, брала деньги; подходила следующая. Давно Вадим не стоял в очереди, тем более, в такой. Перед ним стояла пожилая женщина в вязаной беретке, в стареньком чистеньком пальто, стояла терпеливо, наконец, ее очередь.
— На год хочу помянуть, — она назвала имя, протянула в окно пятисотрублевку.
— Четыреста рублей, — отозвалось из окошка.
— Как? — удивилась пожилая женщина в вязаной беретке, — у вас же написано на ценнике: поминовение на год — двести пятьдесят рублей.
— Не мы цены назначаем, это все епархия. Они так назначили.
— Да что же это такое, — совсем растерялась пожилая женщина в вязаной беретке.
— Инфляция, — посочувствовали ей из киоска, даже вздохнули, — цены на все растут. Епархия поднимает. Не я же лично.
— Да хоть бы на пятьдесят подняли, а то… было двести пятьдесят, а сейчас сразу четыреста.
— Так ведь на все цены с нового года поднялись. Сейчас жизнь-то какая.
— У меня же пенсия не поднялась. Ох, Господи, до чего же они нас везде грабят. Государство грабит, и церковь грабит. Совесть у вас есть? Прости меня, Господи, — сорвалась она.
— Женщина, не задерживайте очередь, — не выдержала и очередь.
— Очередь? — обиделась она, — патриарх наш на БМВ разъезжает, а я все пешком, на своих больных ногах, и четыреста рублей! Я понимаю, на свечи цены подняли, это воск, это сделать их надо, привезти. А тут на что поднимать? Что, указ Бога, что ли, на его слово поминальное — да инфляция? Да цены вскручивать?
— Женщина, не богохульствуйте! — до глубины возмутилась очередь, — не нравится, не платите! Здесь церковь, а не базар! Торгуется она!
— Я богохульствую? Я торгуюсь? Да, это они… Все! Четыреста рублей, — она совсем обиделась, до слез, развернулась и ушла.
Вадим протянул записочку, сто рублей.
— На сегодня помянуть? — уточнили из киоска.
— Наверное, кивнул Вадим.
— С вас сто двадцать.
— У меня только сто.
— Ну, будете должны, потом занесете.
Смущенный, все боясь, что кто-нибудь в глаза ему заглянет, вышел он за ворота; неприятная ситуация, всегда неприятно, когда вот так, вдруг, и должен.
— Что, и ты Богу деньги задолжал? — победно воскликнула пожилая женщина в вязаной беретке, — совсем совесть потеряли. Ценники на поминовение устанавливают. А ведь, это жертва называется, здесь — кто сколько даст. У-у, фарисеи! — погрозила она церкви кулаком.
‑Отдал записочки? — спросила сестра, когда Вадим вернулся.
— Угу, — кивнул Вадим.
— А хлеб где? Забыл?
— Нет, — ответил Вадим, — инфляция, — повесив куртку, со знанием ответил он.
— Чего? — не поняла сестра.
— Мы еще двадцатку Богу должны.
— Ты чего несешь? Какую двадцатку?
— Я же тебе объясняю, — объяснял Вадим, — инфляция, с нового года тариф на записочки подняли — ну, как на проезд в транспорте. Ты мне сто дала, а по тарифу теперь — сто двадцать. Мне сказали, чтобы я потом занес.
Сестра, ничего не понимая, глядела на брата.
— Ты почему хлеба не купил? Ну-ка, дыхни — пива что ли выпил?
— Никакого пива я не пил, а не веришь, иди сама в эту свою церковь, и сама узнай. Все — цены поднялись, не понятно, что ли?
— Сейчас Андрей придет, а у нас… Иди за хлебом, после разберемся, — она дала брату деньги и скоро выпроводила в магазин.
— Ты представляешь, — говорила сестра Андрею, когда они сидели на кухне и пили чай, — вот Вадик ходил в церковь, записочки отнести, и, говорит, цены подняли, как в транспорте.
— Ну, не знаю, — даже виновато улыбнулся Андрей, — я человек не религиозный, я врач. Мне все это не понять.
— Как вот так можно в Бога не верить? — осторожно заметила сестра.
— Я пытался, — подумав, ответил Андрей, — но не получается. Ведь вера — это вера в спасение, в потустороннюю жизнь. А если не веришь в потустороннюю жизнь, то хоть молись, хоть в церковь записочки неси, хоть молебен целый выстаивай, а… смысла тогда нет. Все равно, что работать, и не верить, что ты за это зарплату получишь. Я это так понимаю.
— А почему в это не поверить — в ту жизнь?
— Не верится, вот, — все так же виновато ответил Андрей, — мне всегда все вечное скуку навевало. А как представишь, что вся жизнь — вечная, совсем тоска, — он не удержался, улыбнулся, — вкусный чай, — заметил он и беззвучно отхлебнул.
Читать дальше