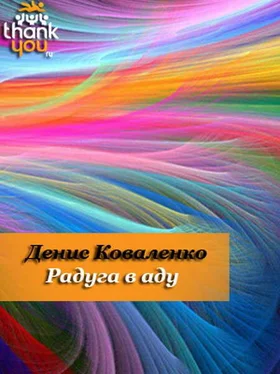Но… — и взгляд его изменился, захотелось хрипло, угрожающе, закричать вместе с Жаном:
Нет, слышишь, нет — не пугай меня, не путай,
А не то я все забуду — я и так уже готов!
Нет, слышишь, нет! Не бери меня на жалость,
Ее больше не осталось
После долгих, долгих снов…
И стало легче. Уже не хотелось ни вешаться, ни прыгать из окна. И все эти Прошки и Параши, выглядели, как и есть — смешными, убогими, ряженными — которым, для потехи, их хозяева дали такие великие фамилии — как называют свою вредную болонку каким-нибудь Наполеоном или Людовиком, чтобы еще смешнее выглядела эта вздорная, облезлая дура, вечно тявкающая без повода и гордо ковыляющая на своих кривеньких ножках, так, точно и, правда, верящая, что она — Наполеон.
В субботу утром все были дома. Людочке на работу во вторую смену, у мамы, и вовсе, выходной.
— Вадим, — позвала мама, когда он выходил из ванной, — Вадим, сходи за хлебом.
Молча, Вадим стал одеваться. Как ни в чем не бывало — значит, как ни в чем не бывало. Значит, так нормально. Они молчат, и он не будет вспоминать.
— Людочка, у тебя мелочь есть? — крикнула мама дочери. — Господи, да что ж такое, ни одной десятки. — Она все искала в своей сумочке мелочь, но кроме единственной тысячной купюры, денег не было. — Людочка, ну что ты там?
— Нет у меня денег, — из своей комнаты отвечала Людочка. — И рубля нет, не то что десятки.
— Да что же делать-то, — все огорчалась мать. — Придется самой идти. А, ладно, махнула она. — Все равно и крупу и макароны купить надо. Ты не раздевайся, — заметила она, уже стянувшего дубленку, сыну. — Я сейчас оденусь, вместе сходим.
Как был в дубленке, Вадим плюхнулся в кресло и стал смотреть телевизор. Мама оделась скоро. Дочь просить, она час будет собираться, даже если и в магазин за хлебом, все равно, полный макияж.
— Я вон бульон поставила, ты смотри, как закипит, сразу на медленный огонь, — инструктировала мать, — и…
— Да знаю я, — отмахнулась Людочка
— …И не забудь лаврушку кинуть. Только пену сними.
— Мама, ну что я, маленькая что ли, — обиделась Людочка.
— Знаю я, вон, как в ящик свой упрешся, в этот свой «Дом-2».
— Кто бы говорил! — Людочка — руки в боки.
— Я бы говорила, — все оглядываясь — ничего не забыла ли, — ответила мама. — Не забудь пенку снять и лаврушку.
— Не забуду, не забуду, — выпроваживала их Людочка. — Идите уж.
Мама с сыном, наконец, вышли из квартиры.
— Сумки забыли! — Вспомнила мама.
— Да там супермаркет, там пакеты бесплатно, — напомнил сын.
— Знаю я эти супермаркеты, — пробурчала мама.
— Возвращаться плохая примета, — Вадиму скорее хотелось на воздух, он уже порядком запарился, пока в дубленке сидел в кресле и ждал маму.
— Примета, — проворчала мама, — ты что ли деньги зарабатываешь, пакет — два рубля стоит.
— Бесплатные, говорю тебе.
— Ладно, иди, на улице подождешь, — отправила его мама, сама вернулась за пакетами.
Вадим уже успел замерзнуть, когда мама, наконец, вышла, из подъезда.
— Ни одного пакета, еле вот сумки отыскала, — вручила она сыну две хозяйственные сумки. Вадим взял их, и, мама впереди, он сзади, двинулись в магазин. — А все таки она забудет лаврушку кинуть, — заметила мама, — обязательно забудет, — повторила даже победно. И повеселело у Вадима, улыбался он, наблюдая, как мама все возмущается, все чего-то приговаривает, — вся такая хозяйственная… хорошо… хорошо, что все вот так — точно и не было ничего.
— Мама, ты прости меня, — произнес он.
— Все хорошо, сынок, — обняла она его, — все хорошо, — и к себе крепко прижала: — Ты же мой сын.
В супермаркете было не продохнуть, люди, люди, люди. В дверь еле протиснулись. Шли мимо касс.
— Ну вот же, — указал Вадим, — вот же, видишь, пакеты бесплатно… Ну и толпа, — глядя на очереди у касс, поникшим голосом произнес он, только представив, что придется стоять в ней: — Д-да, — произнес.
— Ничего, — ответила ему мама, положила сумки в кабинку камеры хранения, закрыла на ключ с большой, с размером в ладонь, квадратной номерной биркой и, взяв корзинку, вошла в торговый зал: — Возьми корзинку, — напомнила сыну. И Вадим, взяв корзинку, покорно последовал за матерью, пробираясь сквозь тесноту озадаченных, толпившихся возле стеллажей людей. Много было народу. И все, что-нибудь трогали, рассматривали, клали в свои корзинки, ставили обратно на полки; все были внимательны; все выбирали.
Вадим ненавидел ходить по таким крупным магазинам. Первое, что раздражало, парни в фирменных рубашках, которые по пятам ходили за покупателями и глядели, будто каждый так и норовил что-нибудь спереть. Неприятно было это пристальное внимание, раздражало оно. Но, наверно, больше раздражало, что мама, возле каждого стеллажа, останавливалась, каждую коробочку так рассматривала, так подозрительно, точно искала какой подвох. Словом, везде висело это подозрительное, пристальное внимание, все всем недоверяли: охранники — покупателям, покупатели — товару, все всё разглядывали… хотелось плюнуть и уйти. Вадим ненавидел эти супермаркеты. Ему нравился маленький магазинчик, прямо возле дома, где работали молодые симпатичные девчонки, которые всегда ему улыбались и здоровались, и не так, как в этих публичных супермаркетах, до нутра пропитанных всей этой проститучьей вежливостью, где русские девицы, с русским, исподлобья взглядом, клеили на свои рты вымуштрованные американские улыбки, улыбки держались плохо, чуть что — кривились, сползали, и, видно, так и зудело под ними — такое что-нибудь сказать, что-нибудь такое…Там, в этом домашнем магазинчике, смотрели и улыбались иначе, тоже по-русски, без комплексов и от души, и подшучивали — и озорно, и даже колко, но беззлобно — по-свойски.
Читать дальше