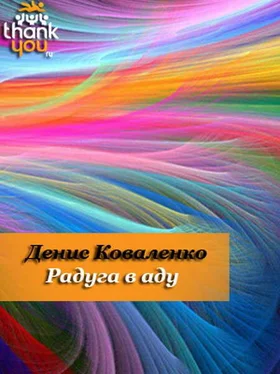— Мама! — опомнился Вадим. — Мама, — рванулся он обратно.
— Куда! — схватили его чьи-то руки. — Куда, дурак!
— Мама!
— Держи! — еще чьи-то руки схватили и держали.
— Мама, — Вадим обмяк, рухнул на колени. — Мама! — орал он беззвучно в небо, — ма… ма.
…Один, никем не удерживаемый, стоял он на коленях, вздрагивая и всхлипывая густыми кровяными соплями.
— Вот, еще один, — его подняли с колен. Руки, белые халаты, — поддерживаемый ими, Вадим покорно вошел в карету скорой помощи, где сидели еще люди, сидели молча, ошалело смотря сквозь друг друга невидящими остановившимися зрачками. И Вадим не видел, глядел куда-то и не видел. Смазанное застывшее ничто, похожее на людей… и еще страх.
— Мама! — опомнился он. — Мама, — выскочил из кареты. — Мама, — спотыкаясь бежал к толпе, окружившей супермаркет.
— Куда! — ухватил его пожарник. — Куда, — держал его, вырывающегося и молящего отпустить его — там мама, его мама.
— Держите, — передал его пожарник двум милиционерам.
— Спокойно, парень, — успокаивали его. — Все нормально, успокойся.
Вадим успокоился. Сил уже не было. Кончились силы. Он опустился на снег, и теперь не сдерживаясь, зарыдал, тихо, в ладони.
…Потом еще долго ходил он в толпе, вглядываясь в лица. Из супермаркета выносили людей. Много людей погибло. Сгоревших не было, были угоревшие, и тех насчитали после пять человек. Много людей погибло, задавили люди друг друга.
Маму Вадим нашел здесь же, ее так и вынесли с пустой корзинкой, намертво сдавленной ее небольшим кулачком. Так и не выпустила ее. Так и увезли маму в морг с этой чертовой корзинкой. Не рискнули при сыне ломать скрюченные застывшие пальцы.
Без дубленки, в разорванном свитере, избитый, вернулся Вадим домой; сильно болели ребра, и нога… впрочем, все это было не важно.
Вадим не был на похоронах и на поминках не был. Не захотел. Не в силах был. Страшно. Маму и в дом не заносили. Привезли к подъезду, вынесли гроб из машины, простились. И повезли на кладбище. Вадим и из комнаты не вышел. Все лежал на кровати, уткнувшись лицом в стену. Страшно. Сестре только сказал: «Не выйду я к ним. Не хочу,» — и лбом в стену, и одеяло на голову. Сестра не настаивала. Оставила его в покое. Сама понимала.
Зима подходила к концу; безрадостная, тоскливая незаметная зима. Для Вадима теперь все было незаметно, он и из дома-то выходил редко, все лежал на своей кровати в какой-то болезненной обессиливающей полудреме, казалось, весь мир окунулся в эту болезненную полудрему. С сестрой отношения совсем разладились. Вадим не мог ее видеть, да и она его избегала. Мамы не стало, и то, что связывало их, ушло вместе с ней. Теперь казалось даже неестественным, что они вдвоем живут в одной квартире. Все чаще сестра оставалась у Андрея, который сам жил с родителями в двухкомнатной квартире. Был как-то разговор, чтобы Андрей переселился к своей невесте, но… и это казалось каким-то неестественным; вся их жизнь теперь — в этой квартире, в этом городе, вообще в этом мире — все казалось неестественным. Бывало, что целыми днями Вадим и Люда даже не встречались, ожидая, когда кто-нибудь первый выйдет из кухни, из прихожей, все делалось, чтобы и не видеть друг друга. После похорон они так ни разу и не поговорили. Вадим чувствовал, что он виноват, не какой-то там охранник, а он, который вот живет в этой квартире, в этой комнате, спит на своей кровати, а напротив — диван, пустой, сложенный диван, на котором теперь никто не спал, на который никто и не садился. Как могильный камень покоился он возле стены, холодный и суровый в своем одиночестве, и на тумбочке, возле окна, мамина фотография…И в этой комнате Вадим ночевал; каждую ночь он в страхе, включив свет, включив без звука телевизор, забирался в свою постель, и тихо засыпал, все стараясь глядеть в суетящийся молчаливый экран. Звук не хотелось включать, звук раздражал; все теперь раздражало, и первое — этот могильный диван…Не хотелось ночевать в этом доме. Страшно. И сестре в глаза взглянуть — страшно, потому что эти глаза верили — он виноват, он один во всем виноват. И он соглашался с ними, видел эти глаза и верил вместе с ними — он виноват. И, веря, ненавидел эти глаза, и лицо, и всю ее — маленькую невзрачную белую моль, так похожую на маму… ненавидел. И тем больше, когда находил в шкафу свое чистое белье, выстиранное и выглаженное ею, и когда заходил на кухню и ел приготовленный ею для него ужин. Не хотелось есть — тошно было, но… есть хотелось, от того и ел, торопливо, с отвращением, и, тем более что вкусно сестра готовила — как мама.
Читать дальше