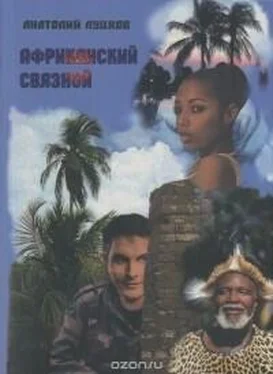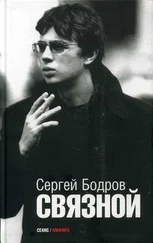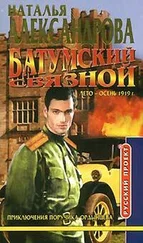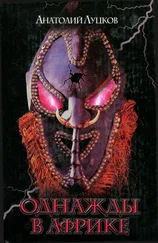Отец Макс Райнер, миссионер, не только любил пить с Вьюгиным пиво, он еще и щедро делился своими рассуждениями по поводу обращения язычников в веру христову, таким образом, активно защищаясь от дорожной скуки. Вагон все так же трясло, за окном пролетал скучный лес с полуобсыпавшейся листвой и деревеньки с остроконечными крышами приземистых хижин.
— Зря считают, что местные жители сплошные идолопоклонники и фетишисты, — вразумлял Вьюгина Райнер, без особого интереса поглядывая в окно, откуда врывался внутрь теплый ветер и отдувал вправо занавеску.
— Идея единобожия им далеко не чужда. Называют они своего бога-творца, а иногда заодно и прародителя, в каждом племени по-разному, но разве в этом дело? У одних это Мурунгу, у других Нзамби или Ньомбе. У европейских народов Бог тоже носит разные имена. Поэтому в переводах Библии на местных языках Бог имеет то имя, которое обозначает собственного и привычного бога африканского племени.
Вьюгин, будучи студентом, в свое время прослушал курс религий и верований Африки и поэтому мог отчасти проявить широту своего теологического кругозора, чем приятно впечатлил миссионера. При этом он деликатно воздержался от замечания по поводу того, что понятие вселенского бога, как его понимают христиане или мусульмане, африканцам недоступно: у них есть свой бог племени, который создал землю и небо единственно ради этого самого племени. А ответить на коварный вопрос о том, кто создал, кроме них самих еще и другие народы и расы, они едва ли бы смогли, с догматическим упрямством отстаивая версию своей сомнительной богоизбранности. Не на том ли и была основана религия одного ближневосточного пастушеского клана, даже и не племени, потомки которого до сих пор продолжают проявлять жертвенную приверженность идее собственной исключительности? Вьюгин опасался того, что, затронув эту тему, он направит разговор в такие богословские дебри, увести из которых миссионера удастся только, утащив его в вагон-ресторан, где всегда имелось холодное пиво. А о том, что Вьюгину пришлось когда-то прослушать обязательный курс “научного” атеизма, то об этом он деликатно умолчал. Отец Райнер болезненно бы воспринял само существование подобного курса.
— Кстати, в африканских пословицах немало таких, где упоминается именно Бог, а не какой-то там идол или Дух Леса или Воды, — между тем продолжал Райнер, — например, “если ты глух к призывам людей, тебе надо прислушаться к призывам Бога”, или “человек, возможно, себя знает, но Бог знает его лучше” Или вот еще — об ответственности за свои поступки: “Бог не заставляет человека подниматься на дерево и рубить его под собой”.
Вьюгин в это время вспоминал русские пословицы, но кроме присказки “Бог дал, Бог взял” ничего не извлек из небогатых тайников своей памяти.
Зато у миссионера запас, видимо, и не думал кончаться и он вдохновенно продолжал:
— А сколько у них пословиц, призывающих прилагать усилия, а не уповать только на помощь свыше! Вот только некоторые из них: “Бог не дает ничего тому, кто сидит без дела” или же “Бог кормит тех птиц, которые помогают себе крыльями”.
Вьюгин уже знал, что отец Райнер сойдет на следующей большой станции, там его встретят и отвезут в портовый город друзья, откуда он отправится в Европу вдоль берегов Африки. Отпуск у него был такой продолжительный, что он мог позволить себе неспешное морское путешествие, о котором давно, по его словам, мечтал.
И вот Вьюгин остался в купе совсем один, что сразу же вызвало у него рой мыслей, навеянных недавним воображаемым разговором с неким автором “шпионских” романов. Неужели за ним до сих пор нет никакой слежки и ему дадут спокойно добраться до места назначения и доставить то, что Ляхову передал Леонард? Да еще и фотопленку, на которой Вьюгин запечатлел то, что казалось ему примечательным в стране, где пока еще вяло разворачивались военные действия между бывшими друзьями по оружию.
А на следующей станции наконец возникли основания для подозрений: у него появился новый сосед. Это был крепко сбитый африканец с более темным оттенком кожи, чем у большинства местных жителей и с небольшими внимательными глазками. Он назвал свое имя (было ли оно своим?), которое Вьюгин не сумел разобрать и запомнить, но от вступления в разговор воздержался. Вместо этого он все время переговаривался на совершенно непонятном языке со своим товарищем, который выглядел, как его брат. Он либо заходил к нему и садился рядом на диван, либо они оба стояли в коридоре и курили у открытого окна. Этот его товарищ, а, возможно, сообщник, был коренастый, стриженый почти наголо, и изредка поглядывал на Вьюгина внимательным оценивающим взглядом, словно боксер, который впервые увидел своего будущего противника. Оба они были в светлых рубашках и темных брюках. Никаких вещей Вьюгин у своего нового соседа не заметил и это почему-то его насторожило. Итак, ему предстояло провести ночь в обществе попутчика, которому он уже заранее не доверял. Он вынул из сумки то, чем он дорожил больше всего и, застегнув ее на молнию, вставил внутрь почти незаметную нитку, которая даст ему потом знать, тревожил ли кто-нибудь его сумку, когда ее владельца не было рядом. Потом Вьюгин отправился в вагон-ресторан: время было как раз для английского позднего обеда. А оба друга-соплеменника в это время стояли в коридоре, словно в карауле, и краем глаза, с беспредельным терпением хищников, следили за тем, куда он шел. Впрочем, Вьюгин почти убедил себя в том, что все это ему только казалось. Сознаться в чувстве страха людям часто не позволяет самолюбие, а Вьюгин был в меру самолюбив.
Читать дальше