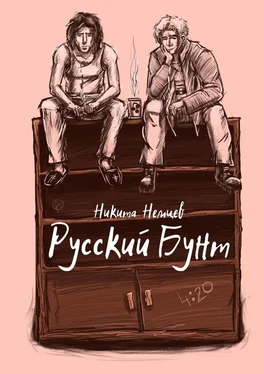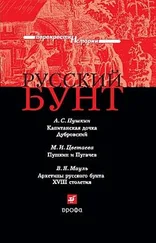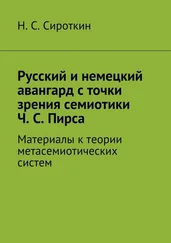— Однако не могу не отметить, что живёте вы сыто, — сказала Таня.
Мы благополучно расположились в одном из ощетинившихся заборами двориков Хитровки. Поскольку просто-скамеек не было — сидели и курили на детской площадке (рядом красовался городок, сделанный под Кремль). Снежинки насели Тане на волосы, как белые ягоды.
— Не понимаю я обычая извечно власть журить, — сказала она и со смаком позевала (с дороги ведь). — Вот прелюбезно мы сидим сейчас здесь и курим. А на исходе прошлого столетия нас могли бы поджидать и негодяи!
— А теперь, блин, менты могут впаять штраф за то, что мы на пустой детской площадке курим… Я не то чтобы против — просто ничего не меняется. — Я обернулся, чтобы бросить бычок в снег, — и увидел на глухой стене огромную живописную свастику.
— Быть может. — Таня её не видела. — Но поздно или рано — гражданское общество восторжествует.
— Ну хер знает…
За белыми шторами снега нас что-то снова звало: скамейка с готовностью осталась позади.
Мы ходили и ходили — как бы желая потеряться. С Камергерского переулка, минуя магазин «Продукты» и памятник Бродскому, вышли на Пречистенку; та, нимало не стесняясь, повела нас прямо к дому Цветаевой; заглядываясь, но не заходя, мы прошли через дворик этой усадьбы и оказались на Варварке, окружённые хилыми четырёхэтажными жёлтыми домами и заборами (КПЗ «Россия»), но мы были неумолимы — нас приветствовал с плюшками и самоваром терем с гигантской надписью «ПАРКЕТ», и Останкинская башня, и посольство Бразилии (почему-то Танин полароид был использован на то, чтобы сфотографироваться именно у него), я надбавил шаг, ведь отсюда прямая дорога к Новодевичьему (он всё ещё на реконструкции), там дальше через Сетунь и на Парк Победы, вот здесь направо — и уже купола «Охотного ряда», и уже толпы народу, смех, шапки, пар: немного Дмитровки, немного Мира, немного Арбата, немного Садовой (по пути на припаркованных машинах и стенах я всё замечал знаки анархии, пацифизма, свастики — их была масса, вся Москва утопала в них, и всегда они были втроём, как бы внахлёст, слагаясь в загадочную пентаграмму), быть может до Звенигородской? или лучше до Разъезжей? Далековато — нет, лучше на Вознесенский проспект.
Таня помалкивала; говорить приходилось мне — и всякую чушь:
— Я почему Петербург не люблю: там время медленное в «сейчас» и быстрое в «потом». Как будто тебя объедают, блин. А в Москве моменты летят, — а года тянутся бесконечно долго. Время здесь, что ли, насыщеннее.
— Да? А я всегда держалась мнения, что то, что ты изволишь называть «съеденным» временем, — свойство городов вообще. Даже в моём скорбном Мурманске дело обстоит точно так же. — Она длила широкий шаг (мы шли теперь быстрее). — А можно ли задать тебе вопрос?
Её лицо было повёрнуто ко мне пощёчиной. Снег лепил с таким тщанием, что сигареты тухли и вымокали, но мы благоразумно держали их в кулачке.
— Валяй, — сказал я.
— Почему ты столь часто повторяешь это безобразное слово «блин»? Русский язык — сокровище, которое…
— Потому что блин — круглый и вкусный, блин! — сказал я весело.
(Москва — круглый и довольный блин.)
Я подумал и спросил:
— А помнишь, ты писала, что будет если повторять «Москва»?
— Разумеется.
— Я пробовал повторять дальше. Из Москвы получается сначала «кумыс», а потом «мы, сука».
— А с Петербургом что?
Я стал при ней же повторять «Питер». «Терпи» долго не хотело ни во что оформляться, но потом всё же превратилось в «терапия». Я рассмеялся. Таня, кажется, оскорбилась — и не нашлась, что сказать.
Мы молча цокали каблуками по пустынной и гирляндной Никольской.
— Нет, ты не подумай, — сказала она, разглаживая складки разговора, — Москва мне даже очень по душе этот раз… Но только голова от неё кружится.
Снегопад всё-таки расходился — невидимые дворники-гиганты швыряли снег лопатами (и не попадали), ледяное белое безумие застилало улицы (его вьюжистый смех звенел в ушах), метель заставляла щурить лицо, щёки дубели, магазины закрывали ставни, кареты «Скорой помощи» вазюкали своими синими сиренами в белизне, люди давно покинули улицы и спрятались по домам и подъездам. Одной рукой я держал свои штаны за пуговицу, другой — держал Танину приплясывающую ручку (я же экскурсовод). Не знаю, что именно я ей показывал. Это было непохоже на Москву: мы были нигде.
Нет, я пытался. Я пытался вывести нас в укромный двор, который я помнил где-то в окрестности. Но из разу в раз выходило, что мы оказывались у Николы в Блинниках (не менее красного, чем мы с мороза, — и закрытого). Дубак был неумолим, мороз обжигал лицо, метель стлалась белым. Я отчётливо запоминал всякое движение — тут вперёд, тут налево, тут, кажется, через дорогу — и считал шаги: но мы снова и снова возвращались всё туда же. В белой молотьбе метели я видел — или мне казалось, что видел — чей-то чёрный силуэт с голыми ногами: он сгорбленно уходил прочь от нас, но я чувствовал на себе как бы взгляд: в какой-то момент, мы невольно последовали за этой сгорбленной спиной. Москва — котёл манной каши…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу