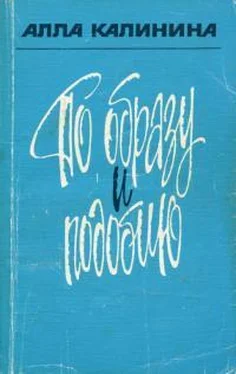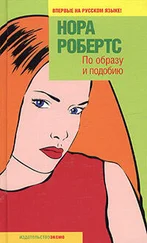Книжка попалась скучная, мне не читалось, я глазел на своих попутчиков, невольно вновь вовлекаясь в чужую жизнь. Рядом сидело целое семейство — видимо, бабушка и дедушка с внуками. Старшие возились с продуктами и громко обсуждали свои семейные дела. На коленях одного из мальчиков стояла клетка с голубым волнистым попугайчиком. Вокруг него целый день толпились дети нашего вагона и даже приходили из соседних. Они толкались, просовывали пальцы сквозь прутья клетки, сыпали в нее крошки. Я уставал от их постоянного настырного присутствия, пыхтения и топота возле моих колен, а птичка, казалось, наоборот, была очень довольна, вспархивала, кружилась на своей жердочке и вдруг начинала бормотать совершенно человеческим голосом: «Ах ты моя птичка, птичка-невеличка» — и звонко изображала звуки поцелуев. Ребята галдели и млели от восторга, а гордый хозяин оглядывался по сторонам, чтобы все видели, чья это птичка разговаривает. Я безуспешно пытался дремать, думал, вспоминал всю суматошную череду последних дней, густые, перенасыщенные именами и событиями разговоры, чужую жизнь, которая, оказывается, была и моей, и все равно не мог вместить в себя всего разом, все путалось, мешалось, кружилось на месте, ни ясность, ни покой не наступали. Дорога была бесконечной.
Когда мы приехали в Ленинград, все еще было светло. Я сразу увидел Юлю. Она спокойно стояла в стороне, совершенно отрешенная от вокзальной суеты, ждала. Она была маленькая, кругленькая, с крошечными ручками и ножками, с толстым губастым личиком и карими, близко поставленными глазами. Самое удивительное, что и она меня тоже узнала сразу, заулыбалась, протянула руку:
— Так вот ты какой, Жорик! Похож, похож, что-то наше есть.
Я понятия не имел, на кого мог быть похож, и в то же время понимал, она говорит правду, по каким-то неясным признакам мы узнавали друг друга, может быть, даже не столько видели, сколько ощущали. Вот Юля, например, по описанию фигуры гораздо больше походила не на свою мать Надю, а на нашу общую покойную тетку Дусю, лицом — на дядю Мишу, а насмешливой улыбочкой — уж не на меня ли? А впрочем, она была старше меня чуть не вдвое, ей явно было за пятьдесят.
Мы перешли площадь и спустились в метро. Ехали мы долго, и постепенно у меня возникло назойливое ощущение, что я никуда не уезжал из Москвы или, вернее, так до сих пор и ехал в этом вагоне метро и никакого разрыва между Москвой и Ленинградом нет, может быть, вообще я ехал по кольцу. Улица, на которую мы вышли, тоже ничем не отличалась от московской, она была очень широкая, новая, унылые пятиэтажки чередовались с башнями, чахлые садики еще не успели разрастись. И здесь тоже шел дождь. Мы поднялись по лестнице и вошли в маленькую квартирку.
— А я рада, что ты приехал, — сказала Юля, — я всех отослала, чтобы не мешали, хоть поговорим… Мне хочется поговорить, понимаешь? Все перебрать, вспомнить… Расскажи мне про свою мать, я ведь ее никогда не видела. Отца видела, давно, еще до войны. Мы приезжали в Москву и все собирались у тети Раи. Дядя Саша был такой веселый, красивый, крупный. Папа говорит, он очень похож на нашего деда…
— Я не помню отца.
— Ну да, конечно, я знаю… А мама?
Я молчал. Только сейчас я понял, что и о Марго тоже почти ничего не знал, не интересовался, не думал, кого она любила, кого вспоминала или видела во сне. Я не понимал, что, в сущности, случилось между нею и отцом, в чем она была права, а в чем — нет, кто виноват в том, что так решительно разорвались ее отношения с семьей отца. Какая Марго вообще, что она за человек? Я знал только то, что люблю ее, всегда любил, потому что никого у меня больше не было на свете, но этого оказалось так мало.
— Давай лучше о тебе.
Юля стрельнула в меня быстрыми насмешливыми глазами:
— Ну, давай обо мне…
— Понимаешь, просто мне нечего сказать.
— Да ладно, знаю я, я не обижаюсь. Нет, правда, я не обижаюсь. Давай сейчас поужинаем, и я все-все тебе расскажу.
Ты знаешь, мы рано осиротели. Когда мама умерла, мне было всего одиннадцать лет, а Зине — пять. Она маму мало помнит, а я очень хорошо. Я помню, что она была очень веселая и любила петь украинские песни, такая голосистая была, она всегда пела. И еще — она очень любила папу. Она так его любила, что иногда не могла дождаться вечера, тогда в обеденный перерыв она прибегала за ним на работу и так на него смотрела, что он сразу все понимал, и все вокруг понимали, и он бросал все дела и шел за ней домой. Такая она была женщина. И когда он в финскую ушел на фронт, она заменила его в мастерской, ждала, ждала, а потом наняла грузовик и поехала его искать на передовую. Она была смелая, отчаянная. Все смеялись над ней, но она его нашла и пробыла с ним несколько дней, пока ее не выгнали. Вся папина семья крутилась вокруг мамы, они ее любили. На Отечественную папу не призвали, у него разыгралась застарелая язва, и мы всей семьей уехали в эвакуацию на Урал. Там папа тяжело заболел, ему становилось все хуже. И чтобы спасти его, мама добилась нашего переезда в Среднюю Азию. Попали мы неудачно, в горный район. Папа устроился на работу в шахту, и мама — вместе с ним. Работа была очень тяжелая. Мама от нее заболела, и никто не смог ее спасти. Зато папа остался жив, как она и надеялась, это она его спасла ценой своей жизни.
Читать дальше