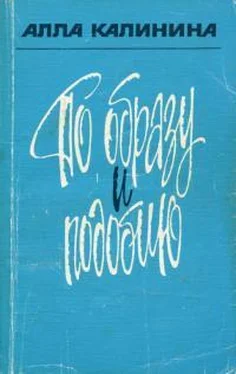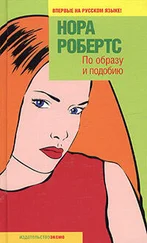— Тут, Лилька, только две дороги — в христианство или в разврат.
— Неправда, неправда, ты же знаешь, я совсем о другом говорю. Я серьезно говорю о том, как, мне кажется, надо правильно относиться к людям вообще. И о нашей с тобой дружбе говорю.
— Ах ты, бедная, милая моя девочка, да не волнуйся ты так, все будет хорошо, я же говорил тебе. Я буду приходить к вам на дни рождения с толстой красивой женой. И никогда больше не буду прижимать тебя по темным углам, этой клятвы ты хочешь?
— Да.
— Хорошо, я клянусь тебе, буду обожать тебя издали.
— Ах, Гоша…
Она засмеялась, и я закружил ее, ни о чем больше не думая. В сущности, ведь теперь все это была их жизнь, их вопросы, не мои, я вполне мог освободиться от этого. Я передал Лильку еще кому-то и отошел в сторону. И тут же рядом со мной появился Борис, встал, заложив руки за спину, красивая его, аккуратно подстриженная борода густо золотилась в странном свете одинокой яркой лампочки, сияющей там, высоко, в ореоле пронзительно зеленых кленовых листьев и разнокалиберной мошкары.
— Ну вот и все, — сказал Борис, — вот и все. Ты больше не сердишься на меня?
— За что?
— Ну и слава богу. Вот приедешь домой, тоже женишься.
— Я? Зачем?
— Да не зачем, Юрка, а почему. Потому что все так делают испокон веков, и ты сделаешь. Неужели ты не понял еще? Мы с тобой такие же, как и все. Мы созданы по их образу и подобию.
— Ты думаешь? Очень может быть. Но почему же тогда я не умею жить так, как все? Не умею и не хочу. Так ведь можно совсем себя потерять, перестать думать, перестать отличаться, вообще слиться с какой-нибудь там биомассой.
Борис усмехнулся, опустил голову, я знал, чувствовал, что у него есть что мне возразить, но почему-то он решил от возражений воздержаться. Почему?
— Жизнь сама покажет, — сказал он мягко, — придет, придет и твой черед, вот увидишь. Ну, завтра в дорогу?
Праздник кончался. Ребята уносили столы и лавки. Вдруг выключилась музыка, словно с грохотом рухнуло что-то хрустальное, и наступила невероятная, непостижимая тишина. Мы вышли во двор, и тут же погас свет в парке, и кто-то протащил за собой провод с дымящейся, пыльной, облепленной гнусом лампой, только что творившей такое лицедейство в ночном парке. Лаяла собака. Доверху перегруженные машины одна за другой отъезжали со двора. Мягко ступая по пыли, ушли пешком соседи, друзья Бориного детства. Все опустело, только мы трое стояли у ворот, не мы трое, они двое и я. И тут Борис обнял Лильку за плечи, и они пошли в дом.
— Спокойной ночи, — донесся с крылечка тихий Лилькин голос.
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Со страхом думал я о духоте и тесноте маленькой спаленки, но больше мне некуда было идти, да и не хотелось никуда. Я устал, мне надоело в гостях, я хотел домой. Еще пять минут посижу во дворе, пять минут. Я сел на лавочку, где днем обычно сидела стайка черных молчаливых старушек, и снова попытался восстановить в уме нить нашего с Борисом последнего разговора. А впрочем, разве дело в Борисе? Это мои, мои собственные мысли, постоянно терзавшие меня весь этот длинный месяц, сегодня были высказаны вслух. По образу и подобию. Кого, чего? Но разве человеческая личность может возникнуть из ничего? Конечно же она строится по генетическому коду предков, знакомых и незнакомых, явных и далеко запрятанных, и давно умерших тоже. Но еще и по образу других людей, в среде которых растет и развивается человек, нет, шире, дальше — речь ведь идет не просто об окружении, но о чем-то гораздо большем, обо всем поколении, и о народе в целом, и о бесконечной его истории. Почему я до сих пор не понимал, что я, такой умный, такой исключительный, — просто один из них, вот и все? Потому что было во мне что-то другое, самое главное, все остальное заглушившее, — моя, только моя, единственная душа, в которой жили и живут мои собственные представления, от которых я не в силах отступиться, представления о прекрасном и о добре и зле, о главном и второстепенном, о допустимом и невозможном для меня, никогда и ни при каких обстоятельствах, даже под страхом смерти. И еще — жажда выделиться среди всех, сотворить что-то свое, единственное, никогда до меня не бывшее, не существовавшее в мире. Что это было за чувство, единое для всех народов и в то же время такое глубоко личное? Где, в чем был его источник? Так вот о чем, оказывается, промолчал сейчас Борис, — еще мы созданы по образу и подобию Божьему. Он промолчал, боясь, что я неправильно пойму его, да я бы и не понял, потому что это были не те слова, не то определение для самого высокого, вечного, что живет и не угасает в человеческой душе, но где было взять другие? Их не было, не было. Совесть, творческое начало, просто душа? Все не то, не так, все слабо и неточно. И в то же время существует же что-то, возносит нас, дает силу и вдохновение, уводит от труда — к его нравственному смыслу, от процесса жизни — к цели! Семья, народ, осознание высшего — вот великая триада, по которой творится человек, и ни одной ее частью нельзя пренебречь, ни от одной нельзя отступиться, если хочешь состояться как личность. По образу и подобию… Я встал со скамеечки во дворе старого храма, неверующий приверженец высших устремлений, мне казалось, мысль моя наконец-то вышла из тупика и полетела, освобожденная и счастливая. Конечно, мне это только казалось, как всегда кажется человеку, сделавшему всего лишь маленький шажок, что вот он уже на главной дороге, но тем и прекрасна наша неожиданная, никогда не кончающаяся жизнь. Я жил. Крупные и мелкие, бессчетные звезды мерцали в высоте над моею головой, тишина стояла, такая тишина! Я был рад, что завтра наконец-то уезжаю домой.
Читать дальше