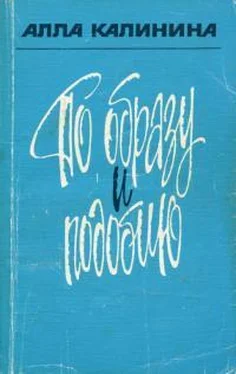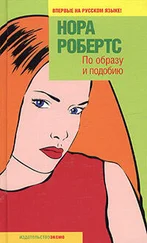— А это они вместе с твоей бабушкой, — она протянула мне еще одну фотографию. Эту я уже видел раньше. Дед и бабушка стояли рядом, взявшись под руки, тесно прижавшись друг к другу плечами на фоне какого-то экзотического южного сада. Они были почти одного роста, лицо у бабушки было тоже крупное, волевое, даже суровое немного. Но главное, что бросалось в глаза, — они были похожи друг на друга, очень похожи, как, говорят, похожи друг на друга все счастливые супружеские пары.
Девица все копалась в своем свертке:
— А вот здесь, посмотри, все твои тетки. Это очень интересная фотография. Дяди Миши и твоего отца нет, только девочки. Дядя Миша, наверное, уже уехал учиться, а твой отец был еще грудной. Видишь, Симе здесь годика два, вот она, самая маленькая, вот эта, следующая — Надя, постарше — Катя, а это, видишь, самая строгая и самая старшая — это Дуся.
И тут перед глазами у меня все уже привычно поплыло, снова увидел я берег моря, белый песок, набегающую почти невидимую, почти исчезающую от небывалой, не нынешней чистоты волну и четырех девочек, бегающих в белых развевающихся платьях по кромке воды. Евдокия, Екатерина, Надежда, Серафима! Наконец-то я увидел их, вот они, я держу их в руках! Почему мне так этого хотелось? Может быть, потому, что именно в этих старомодных образах олицетворялось для меня то незнакомое, давно ушедшее время, только в них оживали многочисленные рассказанные мне сцены канувшей в Лету жизни. А без этих конкретных лиц они были пусты, мертвы. Я всматривался в неправильное личико маленькой Симы в самом центре фотографии. Да нет же, не была она изгоем! У нее такая же прическа, такое же нарядное платьице в рюшках, как и у других сестер, такие же высокие белые ботиночки, они не могли обижать ее, не могли! И все-таки… Вся мрачная, безрадостная жизнь Симы стояла за ее плечами, все состоялось, было, но было уже потом, после, не в этот день, когда гордые родители привели их в фотографию, таких наглаженных, чистеньких, нарядных, целый выводок маленьких провинциальных принцесс. Этот день был. Где, когда, почему случился потом поворот? Откуда идут несчастья человека, с какого мгновения они начинаются? Вот о чем следовало бы подумать каждому, а мне — в первую очередь. Мне опять захотелось спросить у кого-нибудь про Симу, но я не знал — у кого. И тут я вспомнил, Милин сын Володя должен все знать, он ведь тоже, кажется, врач. Я наклонился к нему:
— Володя, а ты знаешь что-нибудь про Симу, как она?
Володя медленно положил нож и вилку, тщательно вытер губы льняной салфеткой и обернулся ко мне. Серые его глаза сразу стали сосредоточенными, серьезными.
— Плохо, — сказал он очень твердо, — судя по тому, что я знаю, дела у нее очень неважные.
— Но ведь это же первый инфаркт, и выглядит она обычно, и болей особых нет…
— Боли есть. Да и не в болях дело. Мне трудно это вам объяснить, — он слегка усмехнулся над моей ужасной обывательской медицинской неграмотностью, — а впрочем, я могу и ошибаться, я не смотрел ее как врач, так, общие впечатления…
И я с облегчением отвернулся от него. Что он может в этом понимать? Он ведь, в сущности, совсем еще мальчик. Завтра я поеду туда сам, разберусь во всем, поговорю с врачами, я — самый близкий ей человек, я — должен. А моя соседка справа между тем продолжала, как фокусник, вытягивать из пакета все новые и новые чудеса. Нет, совсем не случайно посадила ее рядом со мной Мила, она сводила нас, нарочно сводила. И вот теперь в руках у этой девицы был какой-то конверт, и она усердно совала его мне в руки.
— Что это?
— Это письмо. Ну бери, бери, оно тебе, ну чего ты удивляешься?
— Письмо мне? От кого?
— От моей мамы. Я ей написала про тебя и попросила, чтобы она все вспомнила про вашу семью, они ведь были очень близки, дружили в детстве, часто встречались. Они, правда, жили в другом городе, но ездили друг к другу в гости и вообще все друг про друга знали. И вот она написала тебе…
Какая же она оказалась, эта моя сестрица, — быстрая, энергичная, приметливая, просто своя в доску. И все получалось у нее так, словно мы были знакомы с ней всю жизнь.
Я распечатал конверт и развернул письмо, целую толстую пачку тетрадных листочков в линеечку. Начиналось письмо удивительно. «Дорогой Жорочка! — писала совершенно мне незнакомая двоюродная тетка из Иркутска. — Мне передали Вашу просьбу сообщить, что я знаю о Луганцевых…» Боже мой, да что же это творится на свете! Кажется, целый мир рванулся мне навстречу, чтобы сжать меня в родственных объятиях! На что я им сдался? Почему они все так добры ко мне, почему без слова, без сомнения принимают меня, радуются и помогают мне, какая сила всеми ими движет? Уж не желание же, конечно, насолить моей бедной Марго, конечно нет, они стараются для меня! Ну пусть Сима, это было понятно, она знала меня с детства, может быть, привязалась ко мне, но все остальные — за что? Что доброго я им сделал за всю свою жизнь? Я ведь даже и о существований их понятия не имел, а они? Обрадовались, затолпились, списались, съехались. Чтобы увидеть меня? Нет, непостижимо, непостижимо… Я сунул письмо во внутренний карман пиджака, читать его сейчас, здесь было все равно невозможно, я прочитаю его потом, дома, медленно и со вниманием. А сейчас… Я и так уже слишком много упустил. А за столом между тем подали горячее. Мила носилась из кухни в комнату, раскрасневшаяся, уже немного потерявшая свое первоначальное величие и явно очень этим довольная, я просто отчетливо видел, с каким бы удовольствием она сейчас влезла в свой любимый трепаный халат. За Милой по коридору с воплями пронеслись дети всех возрастов. Ее румяный смеющийся младший сын, за ним очень красивый темноволосый мальчик чуть поменьше, дальше тоненькая, как прутик, девочка с жиденькими косичками вокруг маленького треугольного личика, на котором сияли два черных блестящих любопытных глаза. Последней ковыляла Милина внучка в длинном розовом платье и пронзительно, радостно взвизгивала. И снова я замер от какой-то прежде мне незнакомой зависти. Дети, дом… все это было так радостно, так непривычно.
Читать дальше