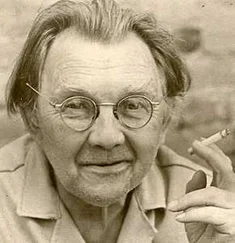Мудрость кмета сделала свое дело, и наша чаша весов перетянула. Дед было согласился отдать корову, но бабка и слышать об этом не хотела. Она подняла глаза к потолку и с криком «Не отдам!» свалилась без памяти. Тети мои выплеснули ей на голову целую крынку воды, а потом всю ее окатили, но бабка не открывала глаз, не разжимала губ. Ее перенесли на сухое место, тормошили, растирали, а она и не думала приходить в себя, лежала, задрав подбородок к потолку, будто неживая. Тут все заголосили, как по покойнику, одна только моя мать высказала подозрение, что бабка притворяется, надеясь вернуть себе корову. Бабка и вправду симулировала, она оказалась достаточно хитрой и притворялась целую неделю — не поднималась с постели, не брала в рот еды, только выпивала за день кружку воды. Ей ставили банки, дед пускал кровь, а когда ничего не помогло, он привел из соседнего села фельдшера. Тот напичкал бабку разными снадобьями, исколол ее всю проржавевшей иглой. В конце концов, не добившись от нее ни словечка, он сказал, что дело труба, и удалился.
Домашние начали готовиться к похоронам. Дед настрогал досок для гроба, тети покрасили рубахи и платки в черный цвет, осталось позвать священника. Деду не хотелось тащиться в соседнее село, и он позвал отца Костадина, надеясь, что бабка перед смертью окажется более сговорчивой и согласится принять от него святое причастие. Отец Костадин был трезв и настроен философски, он начал с того, что изрек библейскую мудрость: «На этом свете все есть суета сует», а потом, со смиренным видом подойдя к заблудшей овечке, великодушно простил ей все ее прегрешения. Когда он стал уверять бабку, что она, несмотря на свои грехи, окажется в раю и что больше ей не придется ходить за шесть верст (дескать, в раю она будет иметь возможность беседовать с господом богом, когда только пожелает), та впервые за семь дней открыла рот и промолвила:
— Корову хочу! Корову!
— Коровы в рай не допускаются, — принялся толковать ей поп. — Луга там зеленые и тучные, им нет ни конца ни краю, а коров нету. Молоко, что течет там целыми реками, не выдоено из коров, а господом богом сотворено, чтоб души праведные пили его свежим или кипяченым — кто как привык на грешной земле.
— Корову хочу, а тогда уж и помру! — не унималась бабка.
— Рука дающего не оскудеет, изрек сын божий! — сказал отец Костадин моим домашним, которые, затаив дыхание, прислушивались к словам бабки. — Дайте ей корову, да успокоится душа ее, это сам господь бог говорит ее устами.
Мои мать и отец поймались на удочку и согласились уступить корову на несколько часов или на день — нельзя было дать бабке помереть, не исполнив ее предсмертного желания. Отец Костадин сказал, тогда она вообще не попадет в рай, а станет оборотнем и будет каждую ночь приходить в хлев доить корову. Но на другой день, когда дед снял с бабки мерку, чтоб мастерить гроб, она вдруг как ни в чем не бывало села в постели и попросила есть. А наевшись, хорошо выспалась, в обед и вечером опять поела всласть, а наутро встала и начала возиться по хозяйству с проворством молодухи. Мать моя и отец оказались в довольно деликатном положении, они не знали как быть: то ли радоваться, что бабка выздоровела, то ли сожалеть об этом. Мои родители согласились отдать корову, чтобы обеспечить бабке место в раю, но с условием, что, отправившись в рай, она оставит корову нам. Было ясно, что бабкина болезнь была чистейшей симуляцией, но данного при свидетелях слова назад не вернешь, и моим родителям пришлось смириться. Правда, они было попытались вывести бабку на чистую воду и вернуть себе корову, только ничего у них не вышло, потому что бабка эту корову выстрадала: целую неделю ничего не ела, позволяла, чтоб ей пускали кровь, кололи ржавой иглой, не говоря уже о том, что взяла на свою христианскую душу такой великий грех. Справедливости ради надо сказать, что бабка, проявив великодушие, пообещала отдать нам будущего теленка и накинула одну овцу.
Дошла очередь до птицы. Кур у нас было ровным счетом двадцать шесть. Их пересчитывали ночью в курятнике, ощупывали на предмет определения веса и яйценоскости, и бедные хохлатки прокудахтали всю ночь напролет, пока не кончился дележ. Настоящая баталия разгорелась, когда настал черед делить петухов. Их у нас было два. Один — черный, с белыми сережками и красным гребнем, большой и вальяжный, точно старосветский чорбаджия, по утрам он не кукарекал, а горланил, как иерихонская труба, и мог разбудить даже мертвого. Обязанности по отношению к своим пернатым женам он выполнял добросовестно, ухаживал за ними с ревнивой грубой галантностью, одним словом, был идеалом петуха в своем курином царстве. Это побуждало мою мать и бабку бороться за него с таким ожесточением, словно он был единственным петухом на всем белом свете. Второй был голошеий, с оранжево-красным опереньем, стройный и голенастый. Он кукарекал тонким бархатистым голоском. То есть, что касается внешности, его можно было назвать приятным во всех отношениях. Однако, глядя на то, как он кокетливо выгибает голую тонкую шею перед курами, о чем-то кудахча фальцетом, мать и бабка женским своим чутьем сразу определили, что этот петух — в своем роде типичный гомосексуалист, от которого дождешься потомства, когда рак свистнет. И потому обе вцепились в черного: одна дергала петуха за шею, другая тянула за ноги, они так помяли бедного и столько повыдергали перьев, что от вальяжной петушиной внешности остались неприкосновенными только гребень да шипы. Мать кричала, что на этот раз бабке не удастся обвести ее вокруг пальца, даже если та уляжется в гроб. Бабка, побоявшись во второй раз испытывать судьбу, цепко держала петуха за шею и божилась, что, если черный петух не достанется ей, она его живым из курятника не выпустит. Тут вмешались в дело мужчины, и было решено прибегнуть к старому испытанному способу, каким пользовались при дележе петухов деды и прадеды. Дождавшись восхода солнца, взрослые положили загипнотизированного петуха посреди двора, заранее условившись, что если бедняга, очнувшись, направится к калитке, значит, он наш, а побежит в курятник — ихний. Бабка очень надеялась, что черный петух побежит в курятник, но бедняга, видно, так был ошеломлен, что спутал направление и, к нашей большой радости, шатаясь заковылял к калитке. «Баста!» — крикнул отец и сунул петуха в мешок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу