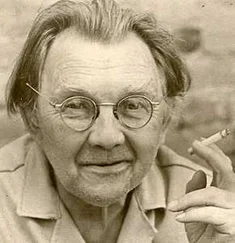Вошел в лес. Меня обдало запахом той сладковато-горькой печали, которую испускают умирающая зелень и палые прелые листья — вся обнаженная красота поздней осени. Сердце мое наполнилось острой болью оттого, что я навсегда покидаю это прелестное сельцо и никогда уже мне не идти под такой вот белой порошей, никогда больше не увидеть влажных ресниц этой девушки. А она будет томиться в одиночестве, потом выйдет за кого-то замуж, родит ребенка… будет, как тетя Линка, проверять школьные тетрадки и никогда не узнает, что ее красота навсегда запала в мое сердце; и никто не оценит и не полюбит ее так, как полюбил ее я, а, наоборот, станут говорить, что новая учительница уж больно худа и бледна, да к тому же лупоглаза.
Я остановился на опушке, долго смотрел на голубоватый, уже припорошенный снегом тележный след, а потом пошел напрямик, через поля, какой-то опустошенный, терзаемый мыслью, что еще одним красивым переживанием стало меньше в моей жизни, а может быть, и в жизни другого человека.
Перевод Татьяны Колевой.
Надсмотрщик, войдя в барак, сказал:
— Старик, ты свободен!
— Как, что?..
— Свободен, говорю. Забирай свои манатки — и чтобы духу твоего здесь не было!
Приказ об освобождении пошел по рукам. Старик стоял возле нар, смешно моргая. В белой щетине его бороды блестели капли пота. Десятки глаз сосредоточились на нем, и разные чувства в них читались. И зависть, наверное, тоже. Нелегко видеть, как кто-то делает шаг к свободе, когда ты остаешься невольником.
Счастливчик смущенно молчал, сжав в кулаке свое собственное изобретение — клоуна, который крутится на турнике с легкостью и изяществом бездушного механизма. В редкие минуты отдыха делал старик игрушки внуку, и усердие его часто служило поводом для наших насмешек.
— Иди, приятель! — сказал кто-то.
— Счастливого пути! — отозвались и другие.
Он словно вдруг очнулся. Радость закрутила его, точно вихрь. Дрожа с головы до ног, старик судорожно рылся в вещмешке, рыдал и смеялся, как ребенок, раздавал товарищам свои зимние вещи — носки, одеяло, — пожимал всем руки. Потом перекинул через плечо мешок с игрушками и вышел из барака босиком, в одной рубашке. За дверью стоял надсмотрщик. Проходя мимо, старик в радостном порыве козырнул ему:
— Прощайте, господин надсмотрщик!
Мрачный усач молча кивнул и пропустил его, потупив голову. Потом закурил сигарету и сказал, обернувшись к нам:
— Обманывают его. Комендант напился, шутит.
Восемьдесят человек кричали, свистели, стучали колодками по стенам.
— Дед, вернись! Тебя обманывают…
А тот шагал и шагал босиком, и никакая сила не могла бы заставить его повернуть назад. Глаза были устремлены вверх, к голубеющему вдали хребту. За этим гребнем в котловине, куда садилось солнце, притулилась его деревенька. Всю ночь и весь день будет он идти по дорогам и тропкам, чтобы добраться туда. В доме остались женщины и внук, для которого он смастерил столько игрушек. Как же мог он вернуться в барак? Как мог поверить простым своим умом, что человек бывает таким изощренным в своей жестокости?..
Часовые, посмотрев приказ об освобождении, широко распахнули ворота и отдали честь. Старик поправил на плече мешок и устремился вперед — ему предстояла долгая, прекрасная дорога…
Он не сделал и двух шагов — полицейские набросились, схватили за локти.
— Ты куда, приятель? — смеялся один. — Думаешь, из лагеря выйти так просто? Кормил партизан — и хочешь, чтобы тебя к ним отпустили? Ишь, шустрый какой!
— У меня приказ об освобождении! — кричал старик, размахивая листком бумаги. — Я пойду к коменданту. Господин комендант!..
Выхватив листок из трясущихся старческих рук, полицейский скомкал его.
Ничего больше не сказав, старик повернулся и заковылял к бараку. За спиной его вспыхнул и погас жалкий клочок бумаги.
Медленно приближался к нам наш старый товарищ, и на фоне заката силуэт его качался из стороны в сторону, словно безжизненная черная тень. Дойдя до середины двора, он остановился. Положил руку на сердце. Мешок с игрушками, издав резкий сухой стук, упал на землю. Старик попытался его поднять, но колени подкосились…
Он допоздна валялся посреди двора, и мы, оцепенев, глядели на неподвижную темную груду — все, что осталось от наивной человеческой надежды.
Перевод Михаила Роя.
Вчера вечером пришлось мне в гостинице поделиться комнатой с моим приятелем — художником Петко Радиловым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу