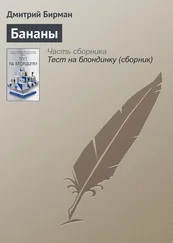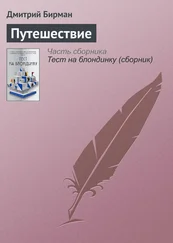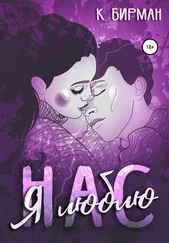Шлепанцы бросаются защитить ее ступни, потому что попробовали бы они не броситься! Их бы живо нашли, загнали по одному в угол между стеной и трюмо, например, и они все равно приступили бы к своему шлепанью. Шлеп один, шлеп — другой, никогда — вместе: она взрослая женщина, а не девчонка с улыбкой на дошкольной фотографии.
Она зовет меня на кухню. Она готовит салат, и я должен открыть для нее банку тунца. Я дергаю за кольцо, и консервная коробка распахивается.
— Я сильный?
— Очень, — говорит она убежденно и с уважением.
— Ты офигительно умна, — говорю я не о ее ответе, а о ее убежденности. — Хитрюга.
Она смотрит на меня снизу-искоса и предлагает попробовать салат. Она было хотела дать мне его попробовать с ложки, которой размешивала, потом собралась достать для этого вилку из ящика, но потом передумала снова и протянула мне эту большую столовую ложку. Салата на ней — в самый раз для пробы: треть ложки. Потому что пол-ложки — ни то ни се, а полная ложка — неуважение к пробе как принципу.
— Достаточно соли?
— Да.
— Яйцо чувствуется?
— Чувствуется яйцо.
Она очень коротко шмыгает носом, это знак удовлетворенности. На настоящее шмыганье, из-за насморка, это совсем не похоже. Настоящее шмыганье строго запрещено. Мне тоже. Поэтому я убегаю подальше, чтобы шмыгнуть носом, а она достает из кармана бумажные салфетки. Я объясняю ей, что мои карманы неудобны для салфеток. Но это уловка. Я просто считаю, что раз-другой шмыгнуть носом при насморке — вовсе не преступление.
— Я хочу подражать тебе во всем, — говорю я, — я понял, что ты ужасно умна, и теперь все буду делать, как ты.
Я утер нос полой выпущенной рубашки. Она порозовела и засмеялась.
— Я знаю, — говорю я, — ты считаешь меня ужасно хитрым и думаешь, что мне нельзя до конца доверять. А я считаю, что тебе можно доверять абсолютно, но я хотел бы тебя охранять.
— Можно я буду тебя охранять? — спрашиваю я.
— Бух! — выкрикиваю я.
— Секунда… — добавляю тихо и делаю секундную паузу.
И еще два раза так же:
— Бух!
— Секунда…
— Бух!
— Секунда…
— Что это? — спрашивает она.
— Тяжелые шаги охранника, — объясняю я. — В этом нет моей личной корысти, — добавляю, отвечая на ее внимательный взгляд, — для меня это некая сверхзадача со сверхсмыслом.
С полной ложкой салата она отходит к телевизору, и когда он начинает гонять эхо своих восклицаний по углам гостиной, а она никак не реагирует на вкус салата, будто ест снег или вату, я стараюсь не пропустить момент, когда она под шумок телевизора шмыгнет носом. Я подшмыгну ей, и она поспешит отвернуться, а я буду смотреть на оконное стекло, чтобы увидеть ее отражение в нем. Если обмен отражений в стекле случится, она повернется ко мне и скажет:
— Вот я.
Мы с приятелем разговаривали у него дома в открытой беседке, которая примыкала к выходу из гостиной в сад и была построена, как обычно, из коньячного цвета широких деревянных балок, от которых теплеет на душе при первом же взгляде на них, точно так же, как теплее становится от коньяка в промозглый день. Беседка стояла на просторной, облицованной розоватым камнем площадке.
— Почему ты оставил беседку без крыши? — спросил я. — Ведь тогда здесь можно было бы сидеть и в дождь или защититься от солнца?
— Она здесь только для того, чтобы организовать объем, — ответил приятель.
Я мысленно удалил беседку и согласился с ним, что без нее было бы скучнее, а если снабдить ее черепичной крышей, то исчезнет воображаемая прямая линия, ведущая в высокое небо с невзрачными облаками.
Наш общий хороший знакомый уезжал навсегда в Канаду, и я предлагал не драматизировать это событие и приводил в качестве примера Набокова, у которого волею обстоятельств было отнято имущество, привычная среда обитания, естественная языковая среда. И тем не менее он состоялся в такой же мере, в какой, наверное, мог бы состояться и в России. Значит, его внутреннее имущество целиком определяло его богатство, предположил я, и, будучи отрезано от имущества внешнего, привело после этой «ампутации» к полной регенерации его личности.
— Не знаю, не знаю, — ответил приятель, — его внутреннее богатство, возможно, успело произрасти из богатства внешнего. Я имею в виду, конечно, не только состояние его семьи, но и это тоже. Я не уверен, что тут можно оторвать одно от другого. Одно питает другое.
— В своих воспоминаниях Набоков очень определенно дистанцируется от русских эмигрантов, не прощающих потерю своих особняков и поместий, — сказал я.
Читать дальше