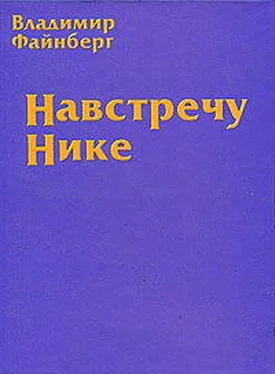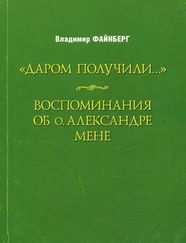Ощущение сиротства пронзило меня. Опять я был затерян среди людей. Без семьи. Без мамы. Нужный всем, кому плохо. И, как всегда, ненужный никому.
В зале появилась давняя знакомая, заведующая библиотекой. Она кого–то искала. Заметив меня, переменила направление, подошла.
— Володя, где вы пропадаете? Между прочим, насколько я знаю, срочно формируется туристская группа в ГДР. Там не хватает одного или двух человек. Поездка дешёвая, с дотацией. Пока не поздно, поднимитесь на второй этаж, напишите заявление.
— Дешёвая, не дешёвая – нет денег.
— Вы ведь никогда не были за границей? А тут поездка в братскую страну… Напишите. Что вам стоит? На всякий случай.
Из интереса, пустят меня или не пустят, написал. Через несколько дней рассказал об этой авантюре отцу Александру.
— Я вам руки не подам, если не поедете. Нет денег – достанем, пустим шапку по кругу. Вам сейчас нужно проветриться, сменить обстановку. Эту библиотекаршу Господь послал.
Как загадочным образом уже случалось, как раз я получил на «Мосфильме» крупный денежный аванс под заявку на новый сценарий. Впоследствии, конечно, не поставленный. Шапку по кругу пускать не пришлось.
Выпустили. После того, как я прошёл собеседование в Краснопресненском райкоме партии. Так было заведено. Хотя никакого отношения к партии я не имел. Старики–ветераны Отечественной войны, отставленные от участия в более серьёзных делах, задавали довольно глупые вопросы, например, почему я выбрал для поездки именно ГДР. Я соврал, что собираюсь писать книгу о бывших фашистских странах – Германии, Италии и Испании, начинаю накапливать материал.
Им понравилась основательность подхода. Пока они тужились, шёпотом советовались между собой, придумывая какой–то новый вопрос, я смотрел на эти старые лица, на затёртые орденские планки, прикреплённые у лацканов их обтрёпанных пиджаков, и думал о том, что я, еврейский мальчик, остался жить благодаря этим бывшим солдатам.
Уж не знаю, что отразилось на моем лице, один из них вдруг поднялся, торжественно сказал: «Товарищ Файнберг, вы свободны. Желаем удачной поездки».
Впервые оказавшись за границей, я испытал все положенные советскому человеку комплексы – удивление перед сравнительно благополучной жизнью, чистотой городов. И в Берлине и в Дрездене, и в Лейпциге терзало ощущение того, что каких–нибудь сорок лет назад на этих же чистеньких улицах меня рано или поздно обязательно бы остановил патруль.
Смотрел на степенных горожан, на доброжелательных продавщиц в магазинах цветов и не мог не думать о том, что эти люди, в случае если бы фашисты победили мою страну, так же прогуливались бы, торговали цветами, лопающимися от жира сосисками…
В Бухенвальде, едва войдя с нашей писательской группой на территорию лагеря смерти и увидев в музее за стеклом горы человеческих волос, предназначенных для набивки диванов, фотографии наголо остриженных живых мертвецов, я тут же вышел за ограду, не было сил идти дальше, осматривать со всеми бараки, печи крематория.
Курил на скамейке под огромным, развесистым деревом, помнящим, как в эти ворота втягивались под конвоем эсэсовцев и овчарок тысячи и тысячи невинных, и понимал, что не прощу. Никогда.
А ведь Евангелие призывает к прощению, Христос говорит: «Любите врагов ваших»… Я чувствовал, что теряю Бога, не согласен с Ним. Было полное ощущение богооставленности.
Заветная тетрадь с планами и набросками первой главы без толку болталась в дорожной сумке вместе с молитвенником. Постоянно свербило мозг чувство беспомощности перед громадным накопившимся материалом, унизительное чувство бессилия перед задачей, возложенной на меня отцом Александром.
По пути в Лейпциг, где мы должны были прожить три дня, нашу группу на несколько часов завезли в Веймар.
Мне было интересно посетить с экскурсией дом–музей Гёте – любимого писателя, мудреца, и мемориальную квартирку Шиллера. С трепетом осматривал я экспонаты, картины, античные бюсты в богатейших хоромах Гёте, увидел у выходящего в сад окна столик с детскими игрушками. Оказалось, устав от работы, великий писатель приказывал слуге созвать окрестных детишек. Играл с ними, потчевал фруктами и конфетами.
Шиллер, близкий друг и соратник Гёте, жил по соседству, в десяти минутах ходу. Непрезентабельный домик, второй этаж, несколько убогих комнатёнок. На письменном столе под стеклом лежали пожелтевшие бумаги поэта.
— Что там написано? – спросил я экскурсоводшу.
Читать дальше