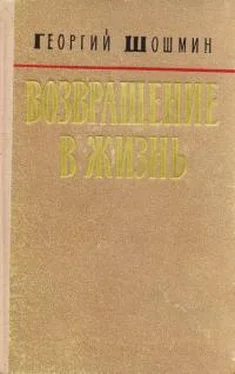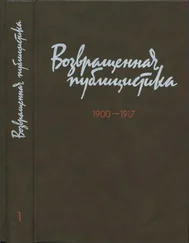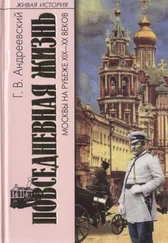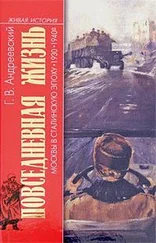Виктор Дмитриевич надеялся, что у дяди Коли он обосновался ненадолго. Но жизнь у старика, на рынке и в пивных — засасывала. Никак не выскользнуть. Чтобы устроиться куда-нибудь — нет ни прописки, ни приличной одежды, ни здоровья. Он чувствовал в сердце тупую боль, мучился одышкой, ночами обливался потом, и вставал через силу, понукаемый дядей Колей.
Он мечтал заработать, приодеться и устроиться. Но дела на рынке шли хуже, заработать удавалось все реже.
— Нечем дышать нам стало, нечем! — уже в который раз признался ему Брыкин, вытягивая шею и раскрывая рот, будто действительно задыхался. Он рывком распахнул ворот рубашки. На лице Валентина было смешливое выражение, но мутные, угрюмые глазки застыли, и казалось — лицо лжет, а глаза выдают отчаяние и тоскливую правду.
Брыкин быстро опускался, бросил вскоре опекать товарища, и теперь Виктору Дмитриевичу самому надо было добывать деньги — не вообще, как они нужны людям, на жизнь, а на водку.
Порою Виктор Дмитриевич сам не понимал, чем только он жив. Но в течение дня все-таки доставал деньги и к вечеру напивался. Зарабатывал он на рынке — исконном, вековом пристанище всех бродяг и пропойц.
Дядя Коля, продолжавший твердить, что надо забыть о музыке, познакомил его со своими дружками. Через них Виктор Дмитриевич получал какую-нибудь работу. Подносил продавцам товар. Пристраивался разводить краску и бегать за водкой халтурщикам-малярам, что все лето стоят у церковной ограды перед Кузнечным рынком. Ходил белить комнаты, красить заборы или пилить дрова. Таскал стекольщикам их тяжелые ящики. Помогал в магазине разгружать полученные с базы продукты. Занимал и продавал места в очередях.
Сплошь и рядом день начинался походом в буфет около рынка, открывавшийся чуть не с первым трамваем.
Большинство тех, кто чуть свет спешили к этому буфету, хорошо знали друг друга. С трясущимися руками и припухшими, непромытыми глазами стояли они у прилавка, вытряхивали все карманы, платили буфетчику пять-десять рублей одной только мелочью, перемешанной с табачными крошками. Свою порцию выпивали тут же, около стойки, закусывая конфеткой или просто «мануфактурой» — вытирая рукавом мокрые, искривленные губы. Те же, что не сумели достать денег, начинали прямо в буфете торговать тем, что еще можно было продать из одежды, только-только прикрывавшей тело. Наиболее опустившиеся просили у кого-нибудь допить или собирали себе по гривеннику на утреннюю стопку, завистливыми глазами следя за пьющими.
Иногда в буфет забегали и прилично одетые люди, и Виктор Дмитриевич с печалью думал, что с этих опохмелок и начинается их постепенный путь к буфетной стойке.
Пить с похмелья было противно. От одного запаха водки уже поднималась тошнота. Он не мог поднести стакан ко рту. Он не хотел пить, но организм требовал и ждал. Одна мысль — лишь бы прошло тяжелое похмельное состояние. И он морщился, останавливал дыхание, давился, но все-таки пил.
Так начинался почти каждый его день...
Так жить — лучше умереть. Мгновенный страх в последнюю секунду, и конец.
Ну а что еще остается делать, если никак невозможно избавиться от привычки, которая все равно раньше времени загонит в гроб?
Но Виктор Дмитриевич не мог отделаться от все возрастающего желания устроить свою жизнь. Он даже надумал поехать в консерваторию. Нет, не входить, конечно, туда в таком виде. Послать какого- нибудь мальчишку с запиской и вызвать Веру Георгиевну. Открыть ей все начистоту и попросить помощи.
Ничего не сказав дяде Коле, он решил выполнить задуманное — и поехал...
Женщина с ведром наклеивала на щит афиши концертов, предстоящих в зимнем сезоне. Из раскрытых окон доносились на улицу звуки роялей, скрипок, поющих голосов и смешивались здесь со смехом детей, игравших на тротуаре.
Вот в прекрасном темпе, с большой, совсем уже зрелой силой играют Третью сонату Бетховена. А вот — еще из одного окна — стремительно вырываются на улицу и, будто перекликаясь с неуемным ребячьим гомоном, почти прозрачно звенят высокие, трепещущие звуки скрипичного тремоло.
В этом классе всегда занимался со своими учениками Виктор Дмитриевич. Несбыточное счастье — прийти сейчас в этот класс, который с похмелья казался ему когда-то постылым и нудным, и начать урок... Сам отнял у себя свое счастье.
Он побрел к Театральной площади, посидеть на скамеечке около памятника Глинке и написать записку, и заметил Веру Георгиевну. Трусливо согнулся, отвернул голову.
Читать дальше