И все это время я думал, что их тоже предал мой отец. Каждый их шаг.
Потом Б. о допросах в секуритате [44] Тайная полиция в Румынии времен Чаушеску.
, об угрозах, о стратегии сопротивления (нельзя, например, каждую их угрозу принимать всерьез, это вопрос жизни и смерти, бывают вещи, к которым надо относиться серьезно, для ясности добавляет он): выходит, отец мой стоял на их стороне, и все эти ужасы, угрозы, насилие, вся эта жуть — на его совести. Они не видят, как я краснею, а если и видят, то, не задумываясь, списывают это на палинку. Я же чувствую (потому и краснею), что всех этих людей, моих друзей, с которыми я сейчас ужинаю и выпиваю, предал мой Папочка. Невозможно слушать все эти их рассказы — получается, будто я его покрываю.
Разговор заходит о X, странная все же фигура, сказать о нем что-то определенное невозможно, какие-то темные финансовые делишки и проч., может, двойной агент, но мы об этом никогда ничего не узнаем. (Как будто мы говорим о моем отце…)
На что я: даже если все это правда, что ты хочешь этим сказать?
Ничего.
Да брось, ты хочешь мне намекнуть, что он завербован.
Откуда мне знать?
Я тогда взбеленился. Да в свете последних событий (они думали о писателе Таре, я — о другом человеке), когда можно заподозрить любого, что он был агентом, ужасен уже тот факт (пауза, многозначительный кивок — кошмар — опять Голливуд!), что мы назовем стукачом того, кто действительно был стукачом!
Все это ужасно.
В разговоре с П., героически превозмогая себя, я не упоминаю о тех самых «скорбных ста страницах». Разговор опять почему-то зашел об агентах, и П., неожиданно повернувшись ко мне, вдруг сказал, что однажды, очень давно, он бывал уже в нашем доме в Ромаифюрдё, по поводу какого-то перевода встречался с моим отцом, до чего же фантастический был человек! я хлопаю глазами на Гитту, ну и жизнь! та все понимает, но не отвечает мне взглядом, а едва заметно кивает.
Он предложил П. отобедать с ним и из какого-то гнусного алюминиевого социалистического судка — точно! точно! в один голос воскликнули мы с Гиттой с непонятным каким-то облегчением, был такой! словно радуясь, что этот судок нас спасет, — извлек какую-то гнусную социалистическую еду, что-то вроде котлеты с сопливым горошком, на грани съедобности, но, дети мои — окинул нас взглядом П. с такой гордостью, как будто речь шла о его собственном, доброй памяти, родителе, — все это он преподнес с такой грандиозностью! И при этом все время с ним говорил, беседовал, рассуждал — в частности, о переводе как таковом, о его принципиальных и конкретных ограничениях…
Да, киваю я ошарашенно, на эту тему он умел говорить — неожиданно тонко, предметно. В этом он разбирался.
15 марта [45] 15 марта — венгерский национальный праздник в честь демократической революции и национально-освободительной борьбы 1848–1849 годов.
, я стою на вокзале в Базеле. И вдруг, как доброму патриоту [А скажи-ка, сынок, у кого ты учился патриотизму? Ну хватит!!], мне приходят на ум Петефи, революционная мартовская молодежь, идеалы, их чистота. В связи с чистотой м. п. у. грязь, а в связи с грязью — отец.
И снова: я словно в (своем) романе. Ибо где еще можно так вот перескочить с грязи на Папочку? И еще внезапно охватывает жуткое ощущение, что я больше не смогу написать ни строчки. Это я еще допишу, потому что история должна быть завершена, ну а дальше — финита. Костолани вон тоже закончил в 51 год. Правда, ему было легче, потому что он умер. ж. с., ж. с., ж. с.
Или, рассуждая практичнее: наступит большой непроглядный кризис, глубокий, как колодец во Фракно (стр. 120). До сих пор мне везло, судьба благосклонно позволяла мне без труда переходить от одной книги к следующей. Я должен теперь готовиться. Как-то прорваться. Не позволить себе растеряться.
А что, если я напишу, но не стану публиковать? Тогда положение было бы легче. И дело не в том, что мне хочется защитить семью («пусть тебя женсовет защищает!»), мне хочется, чего бы это ни стоило, отстоять свое право писать!
Чушь собачья! Чего тут решать? Все идет, как должно идти. Внимать — вот и все мое дело. Задача моя — не писать, а внимать. Если смогу внимать, то смогу и писать.
Л., фантастическая старушка, которую временами я потчую своим легким материнским комплексом, расспрашивает меня о «Гармонии»; книга об отце; на что она задает вопрос: я писал ее из-за чувства вины? Меня это поражает. Не верю своим ушам.
Вины?! Ничего подобного!
Понятно, стало быть, между вами все было в порядке, с присущей ей откровенностью говорит она.
Читать дальше

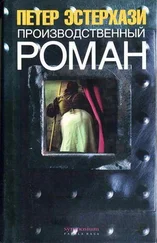
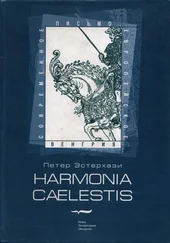

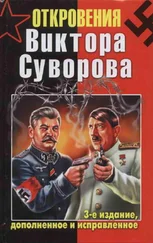

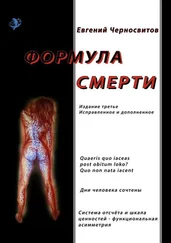
![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)



