О трудностях мог бы отчитаться только он сам, говорю я холодно, словно мой дедушка (к которому П. относился с большим уважением); моя фраза звучит как острота в английском стиле.
Ты видишь, папа, в чем беда: ты умудрился изгадить даже такой приятный в общем-то разговор. И в этот теплый весенний вечер, пусть ненадолго, лишь на мгновение, я ощутил внутри холод и отвращение, которое испытываю ко всем остальным агентам III/III.
[Супруга Й. Ф.: Как же трудно смириться, что его больше нет. (Имея в виду моего отца.) Да чего ж в этом трудного! — упиваюсь, паясничаю я, как будто и впрямь знаю что-то особенное о смерти и вечности бытия. Старушка только кивает: вместе с ним мы потеряли наш голос. (Дело в том, что отец переводил их музеологические статьи.)]
Австрийские телевизионщики; айне кляйне разговор о графстве, все же имя обязывает, аристократы в Восточной Европе. Пограничный случай. Неизбежно заходит речь о пережитых страданиях и о пресловутом достоинстве. Я вдохновенно, прочувствованно читаю им целую лекцию о драматической прелести моего отца, до меня не сразу доходит, что это — документ, что надо все же оставить в нем некий намек, и я неожиданно прерываю свой панегирик, недовольно хмыкаю [интересно, что там осталось на пленке] и поправляюсь, что, мол, все было вовсе не так красиво, не так триумфально, что на самом-то деле все было вовсе не так, все было хуже, гораздо хуже, что время не щадило здесь никого, перемалывало, пожирало, раздрызгивало людей (интересно, как я это выразил по-немецки?), растаптывало всех подряд — короче, все было труднее и драматичнее, чем я об этом рассказывал. С настоящими поражениями, предательствами. Mit wirklichem Verrat, повторил я им. Наступила пауза. Мое счастье, что они не спросили, что конкретно я имею в виду. Но картинка все же получилась возвышенная, лирическая: мол, как бы то ни было, а быть аристократом — замечательно и прекрасно.
Л. в интервью со мной спрашивает, правда ли, что я стремлюсь познать всех и вся, как он где-то слышал. На что я с той же непонятной серьезностью отвечаю (играя сразу на две аудитории), что мол да, конечно, познать… продолжительная пауза… а потом описать все, даже если речь идет об очень близком мне человеке (ну а это зачем?!), пауза. Или — или.
Пока я все это говорю, м. п. у. Архив, люди, которые знают о моем отце правду. Мне кажется, что они могут быть довольны мною. У меня поехала крыша, только похвалы я ожидаю теперь не от классного руководителя. Пришли в школу отца, нам нужно поговорить с ним.
А кстати, когда завербовали твоего отца? — рассеянно спрашивает у меня Гитта. И, уставившись друг на друга, мы отказываемся верить своим ушам.
Есть у меня заметка к 26 фразе из первой части: «Униформу-то мой отец сменил — но не сердце». — Где-то нужно перевернуть эту фразу. Мол сердце сменил, но не униформу. Но я об этой заметке забыл, или просто мне это не пригодилось.
У меня ощущение, будто твой отец убивал людей, но при этом был невиновен.
Да, классовые барьеры он одолел. Это точно.
Иногда проходят часы без того, чтобы я думал о нем. Мы катались на лодке по озеру, кажется, было лето. А потом отправились в испанский ресторанчик. Кажется.
«Почему твой отец был так слаб?» — Только что обнаружил на каком-то клочке. (Я всегда все записываю куда попало.) Не знаю. Не считал для себя обязательным то, что преподал нам? Или не понимал своей матери? Нашей бабушке (стр. 357) ничего не стоило в любое время, будь то утро или среда, охватить взглядом сразу триста-четыреста лет, не говоря уж о вечности, которая даже больше четырехсот лет. Такова была перспектива, в которой она смотрела на все: на события, на людей, а особенно на потери и поражения.(…) Моя бабушка видела далеко, так устроены были ее глаза.
Весной 1957 года, в тесной неосвещенной комнате, находясь в окружении целой группы немногословных и мрачных мужчин, наверное, можно было испугаться. Испугаться смертельно. Подписать и пообещать что угодно. Ну а позднее, потом, разве нельзя было что-то придумать? Или придумка его заключалась в том, чтобы сделать вид, будто он на них работает, на самом же деле… А что на самом же деле? Он и работал на них. Они же, заполучив одного из самых именитых венгерских аристократов, стали сильнее. Увереннее в себе, и эту уверенность сразу почувствовали остальные.
Очевидно, как и другим, ему тоже пообещали, что все останется в тайне. Какое счастье, что документы попали ко мне, а могли бы ведь рвануть неожиданно, скажем, через пять, десять, двадцать лет, словно мина… Хорошо также, что не я один о них знаю, поэтому у меня нет искушения сожрать эти бумаги.
Читать дальше

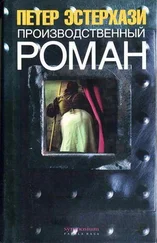
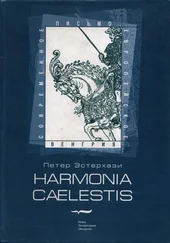

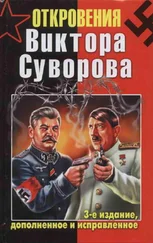

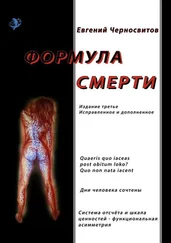
![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)



