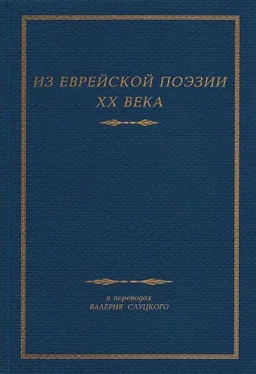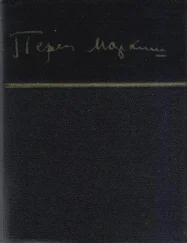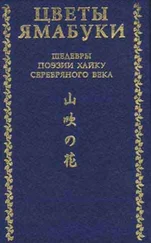Устремлюсь. Буду схвачен. И в крике мой рот
Исказится от боли когтящей.
Так, настигнут, последний из зубров ревет,
Окружен Беловежскою чащей.
И тогда, белизну снеговой пелены
В муках брызгами крови усеяв,
Он припомнит о пасынке чуждой страны,
О последнем поэте евреев.
«Они насмешки мне бросали вслед…»
Они насмешки мне бросали вслед
Устами слепоты высокомерной.
Как птица — мясо, так для них поэт —
Лишь человек с ему присущей скверной.
Они меня просили: «Говори».
Я через силу «бэ» и «мэ» цедил им,
А боль мою, щемящую внутри,
Скрывал за бранью в их кругу постылом.
Я сквернословил в гуще их возни
Под стать базарной глотке. И на это
Кивали понимающе они, —
Его слова — расхожая монета.
Лишь к мороси да лужам обратив
Свои глаза, не ведают о безднах,
О том, как по ночам верхушки ив
Дрожат в мерцаньи всполохов небесных,
О молнии прозренья… Но молчи,
Довольно, не дозволены вторженья…
Почтение к поэту, что в ночи
Творит, скорбя, миры воображенья!
Речь Хеймана, владычица уст Галеви!
И меня овевает цветочная вьюга
Слов твоих, что горят, отзываясь в крови,
На губах поцелуями дочери юга.
Царствуй, древняя речь! Иордан и Евфрат
За спиной твоих войск, закаленных походом.
Твои буквы подобны построенным в ряд
Ассирийским героям квадратобородым.
Я себя полководцем твоим сознаю.
Прикажи, развернут боевое искусство
Ямб — в пехотном, хорей — в колесничном строю.
Впереди знаменосец решительный — чувство.
Из-за Немана, Дона, Невы их полки
Перевел я, победно командуя ими.
О царица! И ты из-за Леты-реки
Вслед за древними переведи мое имя.
«Склонился день в речной воде омыться…»
Склонился день в речной воде омыться
И утонул в зеркальной синеве —
Одевшаяся в траур вереница
Беззвучных волн проходит по Неве,
Оплакивая всплесками утрату.
И, встретив полутьму и тишину,
Исакий погрузился в глубину,
Как колокол, привязанный к канату.
В поток адмиралтейское копье
Вонзило золотое острие,
Колебля фосфорические нити.
Но поднят утонувший день, он тут,
Простерт, бледно-зеленый, на граните,
Тот день, что «белой ночью» назовут.
Свет, лишенный тени, эха — звук.
Трепетней небес конца элула,
Столь неизъяснима явь, что вдруг
О себе слова перечеркнула.
Только вздох из глубины груди,
Только лучезарность вознесений —
Сбросив тяжесть все летит… Гляди,
Дерево парит, как лист осенний.
Словно узы мир с себя совлек,
Ясный без затменья и границы…
Так освобождается от строк
Шелест перевернутой страницы.
«Что наколдовала мне полынь…»
Что наколдовала мне полынь,
Горечью дурманящего сока
Словно повелевшая: «Покинь
Свой очаг и странствуй одиноко»?
Дикий ветер в даль ее занес,
Чтобы у дорог под ноги бросить.
На зеленоватых листьях проседь
Для меня милей багрянца роз,
И не возмечтаю о кармине
Губ твоих, красавица. О, нет —
Вовсе я не скромник, не аскет,
Но — в плену у горечи полыни.
Ленинград, в тюрьме, 25.12.1934
«Я предрекал в зените дня…»
Я предрекал в зените дня
Закат ваш близкий. И от сброда
Злодеев, тычущих в меня,
Повсюду слышал: «Враг народа!»
И сколько раз гремел замок
Тюремной двери, стены злобы
Передо мной смыкались, чтобы
Закат увидеть я не мог.
И слабый отсвет не прорвется —
Моя тюрьма темна, в свечу
Я всматриваюсь и шепчу:
«То свет звезды на дне колодца,
Он возвещает в полдень тьму».
Я верил сердцу своему.
«Свет лимонных зорь конца элула…»
Свет лимонных зорь конца элула,
В небе нежность хрусталя.
В стылую бескрайность заглянула
Увлажненная земля.
Посвист ветра не угомонится
На взъерошенной стерне…
По другую сторону границы,
Друг мой, вспомни обо мне!
Ленинград, в тюрьме, 24.2.1935
«Гаснет день над заводью…»
Гаснет день над заводью. Покой
Не прорвется всплеском плавника.
Замолчали птицы над рекой.
Как печален шорох тростника!
Читать дальше