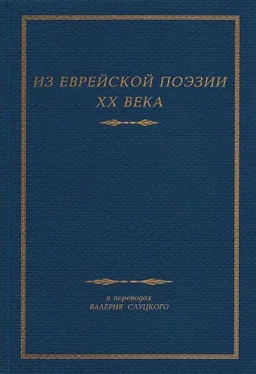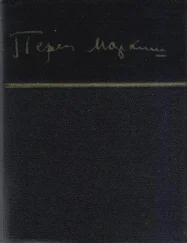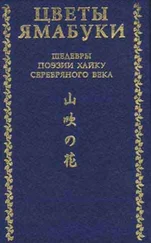Чьих стенаний еле уловим
В стеблях отзвук? Эти берега! —
Не ступала, кажется, по ним
С первобытных дней ничья нога.
В волнах грусти зыблясь и дрожа,
О невозвратимой череде
Давних дней, о странствии стрижа
Шепчут стебли меркнущей воде.
Ленинград, в тюрьме, 1935
Это не вязы, глядящиеся в глубину,
Это не кроны дрожащие отражены,
Но — контрабасы… Их струны качнули волну —
Трепетный звук нарастает среди тишины.
Это не ветка взметнулась над зыбью пруда,
Но — дирижерскую палочку ветер вознес,
По мановенью ее всколыхнулась вода.
Между столбами, поднявшимися на откос,
Птицы пристроились, заполонив провода, —
То партитура. Прислушайся, многоголос
Всплеск мелодический. В два серебристых ряда
Встал на пригорке орган белоствольных берез.
Ветер, подуй! Устремись на мгновенье туда,
Пусть вострубит их сверкающий строй!
Дрогни, орган! Вдохновенной игрой
Вторьте ему, контрабасы пруда!
Ты ли, царица, зовешь меня?..
Тень набегает на берег дня.
Точно усталый гребец — весло,
Луч тускнеющий уронив,
Солнце клонится тяжело
К траурной кромке нив.
О царица, звезды твои взошли,
В их мерцаньи грусть и укор.
Три гонца твоих в темноту земли
Устремили прощальный взор…
Пьяные сквозь базарный ряд
Пробираются, в грязных руках горят
Подсвечники медные. По цене
Сходной их сбудут и медяки
Отнесут в ближайшие кабаки
И утопят память твою в вине.
Звуки имени позабудет речь,
И порастут быльем
Пути в твой храм, но его сберечь
Я сумею в сердце моем.
Не вернуть твоих догоревших свеч.
В немоте забвенья пропасть
Суждено твоему, о царица, дню,
Но священный мир твой в душе храню,
Над которым бессильна власть
Будничного на все времена.
И по праву ветхих страниц,
Сладких плодов в твою честь, пшена
На пороге твоем — для птиц,
По праву нежной твоей руки,
Что касалась моих волос, —
Во мне твоя песня. Вторьте, смычки!
Органный аккорд берез,
Вознеси безмолвье моей мольбы
О завершившей дни:
«Душу Субботы, Твоей рабы,
Господи, помяни!»
Ленинград, в тюрьме, 15.3.1935

«Если сумрак на двери умолкшего дня…»
Если сумрак на двери умолкшего дня
Опускает засов, от унынья лекарство
Предлагает сверчок. Он, ключами звеня,
Отпирает ворота запечного царства.
Ты в страну его, сняв башмаки, загляни.
Южный воздух ее отзовется былыми
Чудесами, и выплывут давние дни
В Иудее и Сирии, в Греции, в Риме.
Здесь вблизи огонька ханукальной свечи,
За волчком наблюдающий завороженно,
Твой отец. С бороды его льются лучи
На страницы раскрытого Иосипона.
Сибирь, 1935

Свет мой, свет! Кто назначил затменье твое,
Повелел этой роще: «Редей!»?
На покинутом поле тускнеет жнивье
В послепраздничный месяц дождей.
Для того ли, Владыка, пишу у огня,
Чтоб, не веря, письмо перечесть
И, зевнув, завершить: «Передай от меня
Моему поколению весть»?
Маринск, Сибирь, 5.6.1935
«Слышу, папоротники шуршаньем листов…»
Слышу, папоротники шуршаньем листов
Шепчут ветру: «Потомки лесных исполинов,
Тех, что высились, мощные кроны раскинув,
Гордость чащ первобытных, — мы ниже кустов!»
Сибирь, 7.7.1935
Хриплый ворон, пророча, кружи и кричи,
Чтобы вера в возмездье окрепла! —
Из закатов рассветы возносят лучи,
Восставая, как Феникс из пепла.
Сибирь, 24.7.1935
По этой трассе, что киркой
Я сам прокладывал, какой
Поток потянется? Колонна
Людская двинется ль по ней,
Подковы вспененных коней? —
Кто может знать определенно?
Гремящий борт грузовика?
Неторопливая клюка?
Сапог увесистый солдата?
И солнце утреннее свет
Прольет навстречу или вслед
Тому, кто здесь пройдет когда-то?
Сады откроются ему
Иль восходящие в дыму
Пожаров огненные дуги?
Присев на отдых, будет он
Цветами яблонь убелен
Иль сединой сибирской вьюги?
Читать дальше