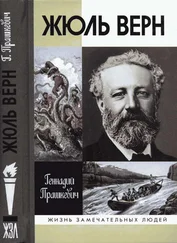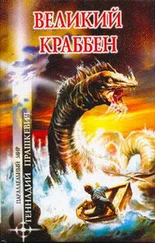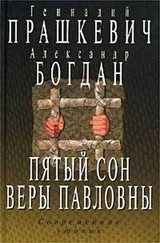И круглые стеклянные медузы,
как Луны, догорают на песке.
Лес
А когда опять в лесу,
в карабин загнав патроны,
я шагну под те же кроны,
на прицел возьму лису,
ель мне глухо проскрипит:
«Ты вернулся. Неужели
даже голос древней ели
бед от лис не отвратит?»
Я опомнюсь,
и в листве,
прокаленной, будто в печке,
продерусь к таежной речке,
прислонюсь щекой к воде,
как молитву сотворю:
«Лес мой, дай любви и тени!»
И, как в женские колени,
ткнусь в небритую траву.
Баллада о запахе хлеба
Осенним Тихим
мы шли на запад,
когда настиг нас
широкий запах,
такой знакомый,
такой тревожный,
как пятна солнца
в пыли дорожной.
Как с неба пал он,
врываясь в ноздри,
дух каравая,
сухой и острый,
в котором сразу
сошлись, как в чуде,
моря и сказки,
поля и люди.
Ах, как он вился
за нами следом,
струился, таял,
взвивался в небо,
в ладони падал,
врывался в рубку! —
и таял, таял,
сухой и хрупкий.
И только утром,
когда за мысом
открылся мутный
пролив де Фриза,
взошел он в небо
на крепких лапах.
О, запах хлеба! —
счастливый запах.
* * *
Разогнутся деревья
и воскреснет трава.
Ну, а мне не вернуться
на мои острова.
Ухожу на «Диане»,
и маячат вдали
мои ранние-ранние
клочья земли.
Что нашел, что оставил —
я потом разберусь.
И с собой расквитаюсь
за радость и грусть.
И забуду карнизы,
что от пепла черны,
и ущелья, где лисами
залегли валуны.
А пока в океане
только волны да мгла.
Тишина покаянно
за кормой залегла.
И куда-то под кузов,
поднимаясь со дна,
уплывает медуза,
как большая Луна.
Стихи о Татии и Эгее
(пушкинские мотивы)
I
Наш корабль ничем
не напоминал корабли Тирра,
и пираты-финикияне не угрожали нам,
и Левиафан, развлекаясь, не кипятил воду,
и не было на борту девушек,
боявшихся девственность потерять,
побывав под грубым фракийцем.
Коротко стриженные,
мы слонялись по низким палубам,
а когда из тумана проявлялись
вершины курильских вулканов,
курили,
не испытывая
никакого восхищения.
Свободные от дел Афродиты, мы не скучали,
а если начинали скучать,
то поминали вслух
дела Афродиты,
называя их проще.
Каждый знал,
что Земля кругла,
что нет в Индеях собакоголовых людей,
что, обогнув шар, можно вернуться на родину.
И если мы не говорили о любви, Татий,
то лишь потому, что любовь
подразумевается во всем и всюду.
II
А вечером, когда я был один,
в каюту неожиданно толкнулся
веселый Татий – человек из Тирра.
О нем я ничего не знаю,
кроме того, что он Левкиппу знал.
Он засмеялся, глядя, как легко
ложатся эти строки на бумагу,
и восклицая:
«Мальчик!
Мальчик!
Мальчик!»,
возлег на ложе твердое, на коем
бессонницей я мучился в тот год.
Ах, Татий, брось! Веселое вино
отнюдь не самый лучший аргумент
в том давнем споре, где ты тщился взвесить,
кому приятней: Зевсу, когда он
касался бедер греческой служанки?
иль Пану, с гиком гнавшему по полю
проворных нимф?
О, смейся, Татий, смейся!
Пей! Не фалерн, но все-таки вино.
Пряди рассказ! Не тиррцы, но друзья.
Что слабость человека? Она сгинет.
Рожденные же ею, будут жить
прекрасные рассказы о любви.
Пей! Не фалерн, но все-таки вино.
Рассказывай с улыбкой и волненьем,
как где-то встарь…
уже давным-давно…
ответила тебе Левкиппа пеньем.
III
Но я не Татий,
я – Эгей,
мне ждать
судьба сулила.
Вечно ожиданье.
Все длится, длится, длится, коий век —
как угадать, когда возникнет парус,
бел, как пески, голубоват, как снег?
Когда он вознесется из провалов,
поднимется над штормовой водой,
зеленой, липкой, темной и седой,
грозящей то ли счастьем, то ль бедой,
которые судьба мне даровала?
Я жду – Эгей. И что мне боль и страх?
Я знаю, перед морем не заплакать.
Нет паруса. Обрывки на песках.
Бакланы пляшут. Пена на валах.
И волны хищно движутся впотьмах —
обнюхивать,
тереть,
и жадно лапать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу