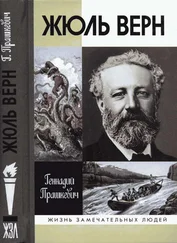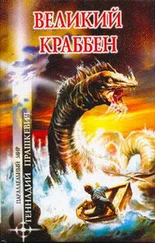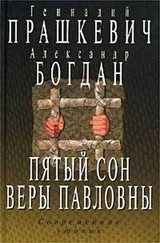А мне осталось помнить белый снег
да черные, забытые пещеры,
в которых первый человек,
отравленный парами едкой серы,
да бухту, над которой тишина
плыла в такие медленные дали,
что кажется – суда Головнина
российских бух еще не покидали.
* * *
А будет берег гол и пуст,
тепло последнего патрона.
Ты проклянешь колючий куст,
сползая с каменного склона.
И ляжет на затвор рука,
и полыхнет звездою рана.
И стают в море облака,
как кровь убитого баклана.
Мыс Желания
Не дотянешься,
не коснешься,
не уснешь на твоей руке.
Водопады летят, как лошади,
расшибаются на песке.
А над ними – сплошная глыба
отшлифованных ветром скал.
Круглый, скользкий, седой, как рыба,
диабаз над водой восстал.
И ревет посреди сияния,
пена звездами в скальном лбу.
Мыс Желания, мыс Желания
искушает мою судьбу.
Залив Северный
Северный ветер. Кусты разбухли.
Вспучились мутные облака.
Тонут в густой взбаламученной бухте
ломкие лучики маяка.
Будто плотину рядом взорвали,
берег забило подушками мхов.
Видно в насмешку июль назвали —
месяц
сушения
лопухов.
Падают ветки.
Как лоб Сократа,
мокрые скалы блестят вдали,
где перечеркнут вершиною Брата
край утонувшей в дождях земли.
Край, где и воздух горчит, как кальцекс,
край, где от бед и мертвой тоски
нас берегут не женские пальцы,
а загрубелые
кулаки.
* * *
Счастливый Стан – угрюмый мыс,
он всажен в глотку океана,
и с темных лав сползают вниз
лохмотья пены и тумана.
Я помашу ему рукой,
взойду на палубные доски,
и ткнусь небритою щекой
в осенний куст твоей прически.
Вулкан Богдана Хмельницкого.
Баллада о спящем боге
Богдан угрюм.
Богдан колодник.
Его тайфунами колотит.
С подошвы к пику
его укрыли
шиповник, ирис
и лилий крылья.
А сверху шапкой
навис сугроб,
короной шаткой
венчая лоб.
Богдан колодник.
Он не раскаялся.
Как зверь голодный,
он выл и плавился.
И нерпой в пламени
стонало дерево,
и айны плакали,
сбегая к берегу.
За их спиною
в слепом экстазе
над фумаролами
клубились газы,
и руки взрывов
вставали в небо,
застлав полмира
слепящим пеплом.
Но годы, годы…
Но старость, старость…
Пришли невзгоды,
пришла усталость.
И голый череп
в парик упрятав,
Богдан нацелен
в ночную вату.
Сияет сажей,
сияет серой.
Как богу спящему
ему не верят.
А мне – по нраву.
Богдан – по мне!
Вершиной рваной
припал к Луне.
* * *
А звезды,
тающий ручей,
трава —
все это там осталось,
в соломе солнечных лучей,
что, тая, в море осыпалась…
* * *
Когда вдали над бухтой синей
встают обломки островов,
и колесом летят дельфины
над бледной пеною валов,
когда бегут неосторожно
и жалуются в тишине
валы – на то, что ты тревожна,
на то, что ты опять во мне,
не дай придумывать мне д у ши
чужим песчаным берегам,
не дай забыть счастливой суши,
почти подобной облакам,
не дай, чтоб я один, ночами,
не зная чуда добрых слов,
следил усталыми очами
теченье низких берегов.
Курильская осень
Начинаются медленные дожди, о которых знают только на островах.
Как тоска по материку, по стеклу оплывают тяжелые капли.
Дым несет по траве, ветер мелко шуршит в кустах,
и антенны на мокрых крышах торчат, как черные грабли.
Лишь случайно из облака выглянет желтый луч,
пробежит по траве, подожжет два десятка сосен,
будто хочет сказать, что сошла непогода с круч,
и, боясь состариться, красится
даже осень.
* * *
Кончается везенье, и с небес
спадают струи на осенний лес.
А мне еще два месяца до дома,
и где еще он будет – мой покой?
Бамбук шуршит упрямо и знакомо
вдоль серой полосы береговой.
Кончается везенье, и не жди!
Качаются замедлено дожди.
Маршрутов не предвидится, как бусы,
дождинки застывают на виске.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу