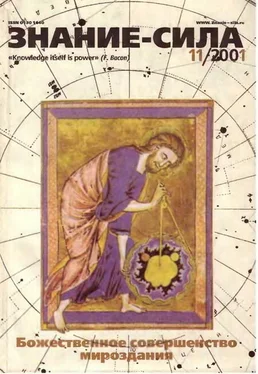– в основе этого разложения – культурная незрелость народа, никогда не жившего в условиях гражданского общества, соединенная с утопией коммунизма, «злоба первобытного, ленивого и распущенного дикаря против дисциплины и субординации, которые налагал на него общественный строй в более высоких и сложных, чем раньше, формах труда и собственности; зависть и озлобление дикаря к своим более культурным соперникам на жизненном поприще». «Коммунизм потому имел успех, что прекрасно подходил как сколько-нибудь приличная личина для прикрытия лика озверевшего раба. Вовсе не коммунистический строй привлекал массы. Для них были дороги в коммунизме первые посылки, «переходные меры». Долой собственность (чужую), грабь награбленное, долой всякий авторитет, долой всякое превосходство, в чем бы и в ком бы оно не выражалось». Народу «нет никакого дела до отвлеченных построений марксизма с его диалектической эквилибристикой. Он видит перед собой не капиталистический строй, а знакомых ему лично людей и предметы, и против них обращает свою злобу. Отсюда полная безыдейность, а следовательно, и бесплодие русской революции. В теории это – утопия, а на практике анархический захват чужой собственности или бессмысленный бунт раба против господина, раба, который хочет, но не в состоянии сам стать господином». 12 ноября 1921 года;
– интеллигенция – один из самых разрушительных ферментов в «революции-разложении». «Интеллигенция подготовляла революцию, и не только пропагандой, практической революционной подпольной и легальной деятельностью… Но когда началось движение, то она стала от него отворачиваться. Почему? Эксцессы? Да, отчасти. Выводы до конца, которые сделал народ. Звериный характер движения. Расхождение с обеих сторон. Интеллигенция стала отходить, и народ с своей стороны стал терять к ней уважение и доверие и откинул от себя. Во главе движения остались только те, которые изменили (если имели раньше) своим принципам и поплыли по течению. Словом, самые малоизвестные, худшие элементы». 12 ноября 1921 года;
– русская и французская революции – глубоко чуждые друг другу явления мировой истории… Во Франции не было такого разрыва между образованными элементами нации и низами… Все время революции оставались незыблемыми два принципа – свобода и собственность. У нас не то. Непонимание неразрывной связи между свободой и собственностью. С одной стороны, идеалы свободы, в той или иной форме и мере входившие в состав программ всех оттенков революционной интеллигенции. С другой – ограничения или отрицания собственности и проповедь ее разрушения…» 12 ноября 1921 года.
Если бы это было написано сегодня, то звучало бы современно, умно и глубоко, но, зная, что это написано восемьдесят лет назад, поражаешься прозорливости этого человека, его безошибочности в оценках ситуации.
«Во многом знании немалая печаль». Результат понимания происходящего – ни с чем не соизмеримая тоска. Того же, кто набирался мужества эту «тоску» исследовать, ожидала настоящая Голгофа.
«20 января 1922 г. Вчера после перерыва в 3 недели пришлось прочесть № Известий. Какая отвратительная пытка быть осужденным ничего не читать, ничего не знать, что творится в России и во всем мире, кроме гнусной, грубой и подлой лжи советских изуверов и сумасшедших! Сидишь как в каменном мешке, куда не проникает ни света, ни свежего воздуха, и слышишь только вопли или исступленный вой гнусов и безумных. И это – четвертый год. Такой отвратительной тюрьмы не создавал ни один деспотизм, ни даже террор во Франции. Чтобы не сойти с ума и не дойти до самоубийства, одно средство – зажать уши и закрыть глаза… и жить в таком положении».
Дневник и Он – не одно и то же, но вместе с тем Он без дневника и дневник без него, как мысль и слово, составляющие его личность, нерасторжимы.
Дневник по определению сиюминутен, но дневник С. Б. Веселовского – исключение. Он вмешает в себя разные слои: синхронные и явно мемуарные.
20 января 1944 года. С.Б. Веселовский сделал последнюю запись в дневнике.
Подвел итог.
Наступило другое время, и он не в силах был его понять.
Некоторые слова последней записи были замараны его женой Ольгой Александровной.
«20 января 1944 г. Все это ушло далеко в вечность. Быть может, так и следует. Что наши беды, мысли и переживанья в потоке событий? Но отделаться и не отделиться от личного невозможно, т.к. мое личное разумно или кажется мне разумным и полным смысла, а поток событий – это, по Шопенгауэру, бесконечная и непрерывная цепь человеческой глупости и злодеяний.
Читать дальше