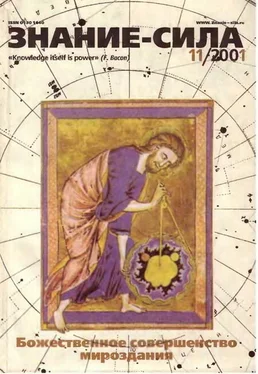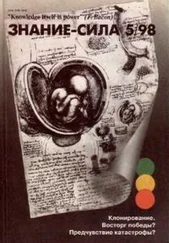«4 апреля 1919 г. Сегодня я опять думал об отношении к народу. Невозможно жить, невозможно даже продолжать жить среди народа, в который не веришь, которого презираешь и не уважаешь. Такой огромный разрыв со средой неизбежно поведет к духовному уродству, вырождению. Относясь так к народу и оставаясь среди него, можно жить только в круге интересов эгоистической наживы; никакой душевный подъем, без которого невозможно творчество высшей культуры, при таких условиях немыслим. Если так, то надо выбирать: или идти в добровольное изгнание, что почти равносильно осуждению себя на пожизненное одиночество, или остаться в прежней среде, но оставить всякую мысль о научной работе, об аскетизме работника науки и направить все свои силы и образование на материальное обеспечение, которое позволило бы оградить свою личную и семейную жизнь от соприкосновения, вне сферы деловых, безличных сношений, с так наз. народом».
Идея «послания» нерасторжимо сливается с саморефлексией. Не все мысли историка кажутся бесспорными. Высказывания о собственном народе выглядят порой чересчур жесткими: я ловлю себя на мысли, что это невыносимо тяжко сознавать, и понимаю, как страдал Веселовский.
«17 апреля 1920 г. Вчера вернулся из Москвы. Видел многих профессоров при получении профессорского пайка. Как все похудели, постарели, осунулись. У некоторых вид совершенно разбитых людей, ходят как тени. Особенно тяжелое впечатление производит старик Филиппов, у которого умерли за зиму жена и сын. У него вид совершенно разбитого, изнуренного старика, дни которого сочтены: второй такой зимы он не вынесет. Очень похудел и имеет не совсем нормальный вид Н.И. Новосадский. А.А. Грушка поседел и похудел, но сравнительно с другими очень бодр. Лучший, чем зимой, виду М.К. Любавского, на которого свалилось столько бед.
Почти все, с кем пришлось говорить, находятся в состоянии какой-то безнадежности. Не только на поворот, но и на улучшение никто в ближайшем не надеется. Истощение и усталость так велики, что большинство даже не интересуется никакими политическими известиями и слухами.
Еще такой год, и от верхов русской интеллигенции останутся никуда не годные обломки – кто не вымрет, тот будет на всю жизнь разбитым физически и духовно человеком. И не удивительно, т.к. то, что мы переживаем, хуже самого жестокого иноземного завоевания и рабства, хуже каторги. Не только разбито все, чем мы жили, но нас уничтожают медленным измором физически, травят как зверей, издеваются, унижают. До чего измучились и изголодались люди! У лавки бывшей Бландова на Петровке я стоял в большой очереди за профессорским пайком профессоров, их жен и родственников. Нужно было видеть, с какой нервностью и нетерпением ждали очереди, переспрашивали друг у друга, как и что дают, с какой лихорадочной поспешностью укладывали и уносили полученное, как бы боясь, что кто-нибудь отнимет, и не веря своему счастью. У стоявших около прилавка загорались глаза при виде больших кругов масла, бочек простых селедок, мешков плохой муки и прочих давно недоступных в достаточном количестве товаров. Женщины относились спокойнее и укладывали полученное быстро и умело, но беспомощные ученые дрожащими руками торопливо и бестолково клали селедки вместе с мукой, постное масло – в мешок с крупой и т.д. Старик Филиппов пришел с своей сильно похудевшей слабой дочкой, забыл свою палку и повез паек на другой конец Москвы на маленькой, самодельной тележке. Другие увозили свою добычу на детских колясках, тачках и т.п. Н.И. Шапошников понес на спине один мешок. 1олод гонит из Москвы многих, и не только из «буржуев» и интеллигенции, но и из простонародья».
Начиная с 1920 года, у автора дневника появляется новая идея. Возникает мысль об исследовании реальностей текущей жизни и теоретических основ социализма. В это трудно поверить, но дневник в самом деле становится «научной площадкой». Дневник обретает совершенно иной язык – научный. Веселовский совмещает трудно совместимое: живое переживание действительности, ее фиксацию, саморефлексию, осмысление и исследование.
Вот какое концептуальное начало вырастало из анализа современной реальности:
– эта революция не есть настоящая революция. Еще в 1905 году, по словам Веселовского, он говорил Ключевскому, что империя недолговечна и скоро рухнет, – по сути, это не революция, а разложение старого строя, не способного быть созидающей основой гражданского общества. Разложение продолжалось и при большевиках, усугубляясь разрухой, нищетой и гибелью культуры. «Пока не видно, по крайней мере я не вижу, чтобы хоть в чем-либо процесс разложения и разрушения остановился и сменился обратным – процессом строительства нового». 26 января 1920 года;
Читать дальше