Или вот еще одна сторона этой же проблемы. Все последние годы справедливо упрекают белорусскую драматургию в отставании — совсем мало оригинальных пьес поступает в театры (не говоря уже о их качестве). Кадры драматургов растут очень слабо. Но опять же возникает вопрос: а могут ли выявляться и развиваться кадры национальной драматургии в сложившейся ситуации, когда из одиннадцати государственных театров республики только три являются белорусскими? Кто будет выявлять, поддерживать и растить эти кадры?
В диалоге Мирзо Турсун-заде и Ю. Суровцева затронута проблема воспитания молодого поколения, говорится о том, как важно появление хороших книг на эту тему. Задумал было и я написать поэму о фабрично-заводской молодежи, о ее жизни и труде, о тех проблемах, которые ее волнуют. Начал ближе знакомиться с «темой» будущей книги и — стал в тупик. Лучшие молодые рабочие, техники, инженеры, хорошие производственники и общественники, поразили меня непонятным нигилизмом и даже пренебрежением по отношению к своему родному языку и культуре. Белорусских писателей читают мало, да и тех в переводе на русский, белорусской музыки почти не знают, искусства тоже, о национальной истории имеют невероятно смутное представление (некоторые даже не знают, когда образовалась БССР — государство, в котором они живут). И стало мне от всего этого грустно. Как же писать с них положительные образы? Иваны, не помнящие родства (они же хорошие производственники), — и вдруг положительные герои книги? Какие же они положительные? А еще мне стало ясно, что надо проводить — умно и терпелиро — большую работу среди молодежи, особенно городской, по воспитанию у них чувства национального достоинства, национальной гордости, иными словами, надо пробуждать у них — как ни странно это звучит сегодня — национальное самосознание. Видимо, это понимают и все белорусские писатели, и потому-то белорусские национальные мотивы выходят в литературе на передний план. Нет нужды доказывать, что это никак не ослабляет интернационального звучания нашей литературы, всегда ей присущего. Ведь, говоря словами Мирзо Турсун-заде, нельзя представлять дело так, «будто бы интернациональное («общее») существует где-то «над» или «около» национального, а национальное — это, мол, что-то такое, что обитает «рядом» с интернациональным».
Очень хотелось бы надеяться, что эти проблемы не будут обойдены вниманием на IV Всесоюзном съезде писателей.
ГУМАНИЗАЦИЯ ВСЕГО И ВСЯ [1]...
Ответы на вопросы корреспондента «Известий» Н. Матуковского.
Каким вы видите сегодня место писателя на фронте перестройки?
Более ста лет назад прозвучало — как наставление и завет всем, кто будет иметь дело с душой человека: «сейте разумное, доброе, вечное...» Доброе — оно-то и есть вечное. К литературе, к писательству это относится в первую очередь. Лиру, которая (потревожу тень еще одного великого) не пробуждает в человеке «чувства добрые», — следует выбросить на свалку: к чему она? Такая лира — бездушная, фальшивая — никогда не нужна была людям, особенно же — сегодня у нас. Постараюсь пояснить, почему «особенно». Потому что в течение всего XX века развитие истории шло через такие перипетии, которые способствовали ожесточению сердца человеческого. Любо не любо, но мы вынуждены признаться себе: милосердия заметно поубавилось в мире, у нас — не будем обольщаться — тоже. Слишком долго с человеком обходились не по-человечески, достоинство личности не только унижалось, но и растаптывалось, сама жизнь человеческая теряла значение наивысшей ценности из всего сущего на земле. Да и что могли значить один человек и его жизнь, если не церемонились с огромными массами людей, с миллионами жизней, с целыми народами! И это немилосердное отношение к человеку, особенно очевидное в таких социальных катаклизмах, как войны и массовые репрессии, с неизбежностью перешло в плоть и кровь нашего ежедневия, во всю нашу экономико-хозяйственную, культурно-идеологическую и прочую деятельность. Разве такие катастрофические события, такие ужасные народные трагедии, как чернобыльская авария, гибель Арала, отравление Байкала, обречение на смерть «неперспективных» деревень и несть этому числа, — разве все это не от бессердечия, не от жестокости, не от равнодушия к людям? Разве это исходило из чувства заботы о человеке, о его жизни, о его будущем?.. Вот почему гуманизация всего и вся — идеологической сферы, системы образования, способов и методов хозяйствования и т. д. — должна стать доминирующей всеобъемлющей идеей развития нашего общества, ибо вне этого теряет смысл все прочее. Отсюда и главнейшая, как я понимаю, задача литературы наших дней— самоотверженно содействовать гуманизации общества, работать на воспитание человечности, доброты, милосердия.
Читать дальше
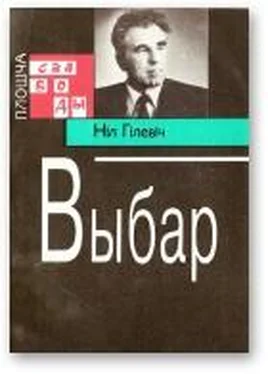


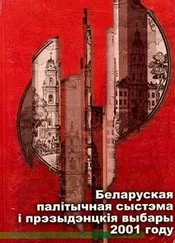

![Ніл Гілевіч - Добры анёл беларускасці [Штрыхі да партрэта Ніны Іванаўны Гілевіч]](/books/90499/nІl-gІlevІch-dobry-anel-belaruskascІ-shtryhІ-da-par-thumb.webp)


