Определенные характерные явления в той или иной национальной литературе не должны оставаться незамеченными, если мы серьезно озабочены изучением опыта всех братских литератур в целях их же дальнейшего роста и развития. Тем, кто слабо знаком с условиями литературной жизни в Белоруссии, наверное, покажется странным, почему в современной белорусской поэзии (да и не только в поэзии) так сильно звучит мотив национального самоутверждения, особенно в стихах о родном языке. В лирике это сейчас один из ведущих мотивов. Казалось бы, а что тут удивительного? Разве это противоречит идейным основам советской литературы? Или тому сближению, о котором мы так много говорим? Нет, конечно, не противоречит. Но почему же, интересно, этот мотив не звучал так отчетливо раньше, например в 30-е и 40-е годы? Почему именно теперь зазвучал он с необычайной силой? Чем это вызвано? Что изменилось в жизни республики или страны? Сейчас у нас нет, пожалуй, ни одного поэта — от самых старших до начинающих, — кто не писал бы на темы национального самосознания, будь то стихи о родном языке или о белорусской народной песне, о видных деятелях национальной истории и культуры или о Белоруссии вообще, о ее земле и людях. Вот некоторые строки из опубликованных стихов о языке. У М. Танка (перевод везде подстрочный): «А песни поете на каком языке? Говорите, что на многих, только не на своем?..» У П. Панченко: «Говорят, мой язык отживает век свой тихий: ему исчезнуть пора. Для меня же он вечно живой — как роса, как слеза, как заря... Плачу я, иль пою, или беседую с матерью — язык свой, песню свою я к груди прижимаю». У Р. Бородулина: «Утверждают историки и языковеды, что стираются грани наций и будто бы обязательно должен отмереть как пережиток язык моей матери — белорусский язык». У Г. Буравкина: «Слова жудостно умирают, угасают, как светляки... Люди, люди! Ну что же вы, люди, не спасаете их, родных?» Подобных примеров можно привести десятки. Не трудно заметить, что эти стихи написаны очень искренне, взволнованно, иногда они звучат как объяснения в любви, иногда как клятва, иногда как страстная речь в защиту. Я написал «в защиту» и задумался: а почему, собственно, родной язык нуждается в такой поэтической защите и от кого его надо защищать? Кто на него нападает? Да вроде бы никто не должен сметь. Ведь его право на жизнь гарантировано Конституцией. Так что же, поэты выдумывают? Нет, конечно. Ничего они не выдумывают. Эти чувства и настроения продиктованы им жизнью. Ага, значит, сама жизнь побуждает поэтов поднять голос в защиту родного языка. Но что значит — сама жизнь? Разве общество не управляет важнейшими жизненными процессами? Разве они развиваются у нас без руля и без ветрил?
Вопросов возникает много. Чем больше думаешь, тем больше вопросов. И одним из самых главных для нас, литераторов, является, несомненно, вопрос о языке. Давно и все согласились на том, что перспектива развития национальной литературы — это перспектива развития языка данного народа, потому что язык — первоэлемент литературы, начало всех ее начал. Следовательно, забота о языке для писателя — одна из главнейших, если не самая главная. Писатель должен все время обогащать и развивать свой язык, используя неисчислимые сокровища живой народной речи. Но вот у нас в Белоруссии сложилась такая ситуация, что, если писатель хочет услышать настоящий белорусский язык, он должен поехать в деревню, потому что в городе такового не услышишь. У белорусских писателей нет того счастья, которым располагают, скажем, их русские или эстонские коллеги,— каждый день, каждый час и на каждом шагу слышать живую речь своего народа, постоянно находиться в ее стихии. Нужно ли объяснять, как это сказывается на творчестве?
Недавно на собрании писателей, посвященном обсуждению белорусской прозы за 1966 год, один из наших старейших литераторов Я. Скрыган приводил примеры, каким ужасным, отвратительным языком пишут некоторые молодые, да и не только молодые белорусские прозаики. Что ни предложение — все калька с русского, притом не с настоящего русского, а с какого-то безобразного чиновничьего волапюка. Слушаешь такое и думаешь: что же будет дальше, как сложится дальше творческая судьба этих писателей? Может быть, им лучше перейти на русский язык? Но ведь русского они тоже не знают, только по книгам...
Или возьмем другой пример. Полтора года назад на всесоюзном совещании по вопросам художественного перевода в Минске очень много говорилось о непостижимо мизерном количестве переводов, издаваемых в последние годы на белорусском языке. Так, в 1965 году в Белоруссии было издано всего пять книг зарубежных писателей. Такое положение было оценено участниками совещания как совершенно ненормальное. Все высказали надежды, что будут сделаны соответствующие выводы. И они были сделаны. В нынешнем, 1967 году из всей зарубежной литературы на белорусском языке выходит уже не пять, а... только одна книга: небольшой томик болгарских рассказов. Простите, но это в несколько раз меньше, чем в проклятом 1913 году, когда белорусский язык не только не являлся государственным, но был по существу под запретом — даже школ белорусских не было. За небольшим исключением, все крупнейшие писатели мира издавались на белорусском языке в последний раз более тридцати лет назад. Между прочим, те же симпатичные дяди, для которых по данному вопросу все ясно, в ответ на несмелый ропот писателей заявляют: а зачем, собственно, переводить на белорусский, если у нас все умеют читать по-русски? Зачем на белорусском Шекспир, Сервантес, Гёте, Бальзак, Диккенс, если все они есть на русском! Ну как им объяснить, этим товарищам, зачем нам нужен белорусский Гёте? Как объяснить, если им и так все совершенно ясно? Нет, вряд ли они могут понять такое. Но кто-то должен понимать, что народ имеет право читать лучшие творения мировых писателей на своем родном языке? И кто-то должен понимать, что без художественных переводов значительно замедляется, ограничивается и сдерживается развитие национальной литературы и литературного языка, что художественный перевод всякой литературе жизненно необходим, если, конечно, она не думает умирать завтра. Этим «кто-то», мне кажется, могло бы быть руководство Союза писателей СССР — никто другой лучше его не может понимать ненормальности такого положения с художественными переводами. Но — известно ли все это руководству Союза писателей? Известно ли ему, что в 1934 году было издано на белорусском языке зарубежных книг ровно в сто раз (!) больше, чем в 1967 году (куда же мы идем?)? Известно ли ему, что произведения писателей братских республик у нас переводятся, как правило, только в связи с юбилеями и к литературным декадам, т.е. не по естественным запросам, а по праздничным программам, а потому нередко в спешном порядке, небрежно, формально, лишь бы числилось? Известно ли ему, что школьники белорусских городов изучают белорусского Купалу, Коласа, Черного и других не в оригинале, а в переводе на русский, точно так же, как Сервантеса или Марка Твена? А если все это ему известно — где же его голос? Можно ли умалчивать о подобных явлениях, которые разрастаются в исключительно острые проблемы развития одной из национальных литератур? (Я говорю «одной», потому что не знаю, как с этим вопросом в других республиках.) Ведь сколько бы мы ни уходили от таких жизненных проблем — от них не уйдешь, и рано или поздно их придется решать. Так, видимо, лучше все-таки решать их своевременно.
Читать дальше
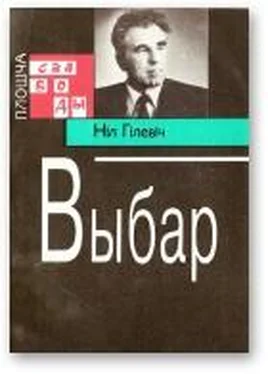


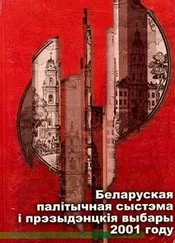

![Ніл Гілевіч - Добры анёл беларускасці [Штрыхі да партрэта Ніны Іванаўны Гілевіч]](/books/90499/nІl-gІlevІch-dobry-anel-belaruskascІ-shtryhІ-da-par-thumb.webp)


