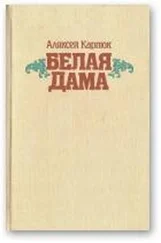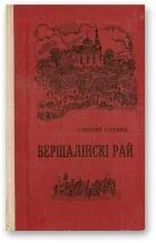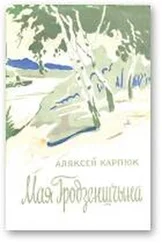Конечно, правда доходила и до нас, пусть с опозданием. Нельзя было отрицать, что в начале 1920-х эксперимент со введением коммунизма провалился, а советское общество распалось до такой степени, что люди начали есть людей. Ленинское окружение уже не стало выдумывать новые утопии, а во главе с вождем, ради спасения обратилось к проверенному веками способу: ввело свободу торговли. Отчего же, рассуждали мы, не вспомнить этот собственный, преподнесенный историей урок свободы? Если невозможно всем сразу, пусть начнут коренные реформы самые развитые. Конкретно шла речь о Чехословакии[ 35 35 В 1967 в чехословацкой компартии взяли верх сторонники «социализма с человеческим лицом», начавшие демонтаж советской модели общественно- политического устройства.
], занимавшей перед войной одно из первых мест в Европе по производительности труда и уровню жизни.
Но не буду скрывать, это был для нас с Алексеем только исходный пункт втом духовном процессе, который в обвинительных материалах назовут «идейным перерождением». Процесс был долгим и упрощать случившееся не стоит. Почему не осваивать западный опыт? Но никто ие проявлял желания что-то менять. Стена молчания... Это потом стало очевидно, что страстные дискуссии о будущем страны ведутся попусту. Бдительно охраняемая от идейных противников, на деле партийная идеология отмирала. Как в Москве, так и в республиках СССР задавали тон беспринципные чинуши, —та самая каста, которая пустила на ветер плоды военной победы народа. Это ей достались, в основном, трофеи, жизненные блага и привилегии. Пытаюсь вызвать из памяти вереницу сменявших друг друга послевоенных «хозяев» Гродненской области, — региона с более чем миллионным населением. Не лица, — безжизненные маски. Соответственно подбиралась и их челядь. [...]
Мы жадно следили за событиями в «соцлагере» и замечали, что центр событий как бы смещается к западу. Сторонники смены политического курса явно перехватывали инициативу. Правда, нажим из Москвы усиливался, но неясно было, решатся ли в Кремле на применение силы. А словам пражские «реформисты» не поддавались. Вот мы и внушали себе, что смелость, мол, города берет, и тем смельчакам в Праге, может, что-то и впредь позволят ...
Этот настрой будоражил, сводил вместе людей в неожиданных сочетаниях. Остался у меня в памяти скромный «пикник» на не- манском берегу с участием Быкова, Каршока, московского критика В. Оскоцкого, поэта Н. Гилевича. Говорили много о чем, спорили, но без раздражения, старались нащупать общее. Встречались тогда в разном составе, и бывали с нами литераторы — поляки, иногда даже появлялись румыны, чехи.
20 июня 1969 г. Председатель КГБ СССР Ю. Андропов направил в ЦК КПСС письмо, с содержанием которого я познакомился много лет спустя, по опубликованным в российской прессе фрагментам[ 36 36 «Комсомольская правда», 16.02.1993 г. — Д. Бабич. Как «жучки» точили книги Быкова.
]. Вот один из них: «Комитет государственной безопасности Белоруссии располагает данными о политически нездоровых настроениях белорусских писателей — члена КПСС Карпюка и Быкова». Второй фрагмент: «Каршок нелегально распространяет среди своих знакомых различные пасквили в виде книги Гинзбург-Аксеновой «Крутой маршрут» и другие. Отрицательно воздействует на молодежь...» Третий фрагмент: «В настоящее время к Быкову проявляют повышенный интерес идеологические центры противника...» Окончание андропов- ского письма было таким: «Комитетом госбезопасности Белоруссии с санкции ЦК Компартии республики готовятся мероприятия, направленные на разоблачение возможных враждебных акций со стороны названных лиц».
Этими «названными лицами» являлись Карпюк, Быков и автор этих строк, в то время доцент, Б. Клейн, упоминавшийся в том же письме в качестве «отъявленного антисоветчика и сиониста».
Выходит, наша участь, о чем мы еще не знали, а только догадывались, — с того момента была предрешенной. Но по-моему, «конструкция» заведенного дела выглядела не очень солидно. Относительно проще было изобличать меня как еврея, так как антисемитская кампания в стране велась довольно интенсивно. Но как объяснить общественности крамольные поступки известных белорусских писателей-фронтовиков, а уж тем более их переход на чуждые политические позиции? В Беларуси, считавшейся идеологически «здоровой» советской республикой, требовались какие-то веские доводы для обоснования репрессий против таких людей. Эти доводы искали в биографиях...
Читать дальше
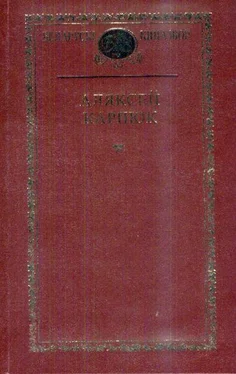
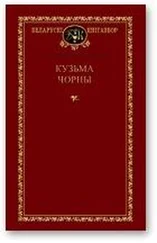
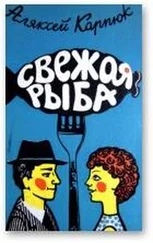
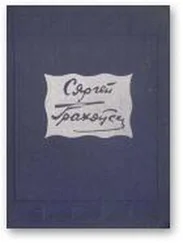
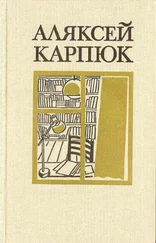
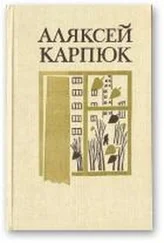
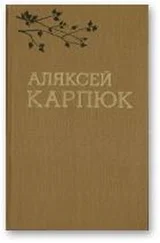
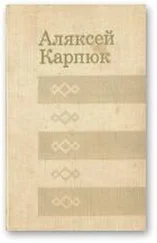
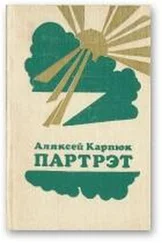
![Аляксей Карпюк - Сучасны канфлікт [Аповесць, франтавы дзённік, не зусім гродзенскія гісторыі]](/books/85856/alyaksej-karpyuk-suchasny-kanflІkt-apovesc-frantav-thumb.webp)