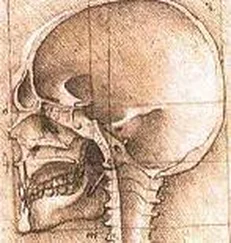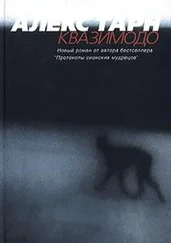– Верно, Ковали.
– Ну вот. Они ведь с вами уже лет сто душа в душу. Ты мне сам рассказывал, как в Гражданскую у них в погребе отсиживался…
Аарон вздохнул.
– В том-то и дело, что сто, есть что вспомнить.
Много чего за это время было, и хорошего, и плохого. Лучше людей в соблазн не вводить.
– Ясно.
Золман кивнул, признавая правоту тестя. Да и как не признать: слишком много злодейств повидал на своем веку детдомовский сирота, солдат Первой мировой, красный партизан Гражданской. Не раз и не два на его памяти блеск чужого серебра сводил с ума вроде бы хороших вменяемых людей. Потому что слаб человек, не всякому доверишься так, как сам Золман доверял своим закадычным дружкам Петру Билану или Войке Руснаку.
Домой в Клишково он приехал уже ночью, насилу пробившись сквозь сплошной встречный поток беженцев, которые кто пешком, кто на подводах двигались в направлении реки по обеим сторонам черновицкого шляха. Само шоссе было по-прежнему наглухо забито отступающими армейскими частями. Колонна едва ползла: то тут, то там что-нибудь случалось, и тогда застревало все многокилометровое тело дороги, напоминавшее гигантского питона, издыхающего от неимоверных объемов проглоченной пищи. Офицеры в грязных гимнастерках матерились хриплыми сорванными голосами, усталые солдаты спрыгивали в пыль, тужились, сдвигая с пути заглохший грузовик, упавшую лошадь, телегу или пушку со сломанной осью.
Но и ругань, и кряхтение, и согласное уханье толкающих тонули в странном молчании, необычном для такого большого скопления людей. Не слышалось ни разговоров, ни смеха, ни восклицаний, ни того привычного гула, который всегда сопровождает многоголосую, многословную, многоязыкую толпу. Того особенного, почти морского гула, собранного из мелких капелек шепота, бормотания, смешков, вздохов, жалоб, брошенных на ходу замечаний, нечленораздельного хмыканья, кашля, напеваемой себе под нос негромкой песенки и множества других подобных небольших звуков, составляющих голос слитной человеческой массы. И это всеобщее безмолвие лучше всего свидетельствовало о всеобъемлющем страхе, который тяжелым камнем лежал на каждом сердце, на каждом языке, придавливая и обездвиживая его, лишая человека речи, выдавливая из голов все мысли, все ответы и вопросы – все, кроме одного-единственного: «Что будет? Боже, что теперь будет?»
Поведение людей на шоссе совсем не походило на панику, ведь паника требует мощного единовременного выплеска энергии, воплей, истерики, судорожных телодвижений, а на все это у них уже попросту не хватало сил. Теперь они могли только молчать, механически, шаг за шагом, переставляя ноги, застывая в тупом ожидании, когда движение неизвестно почему приостанавливалось, и снова пускаясь в путь, когда оно столь же необъяснимо возобновлялось. Напрасно Золман пробовал обращаться к беженцам, чтобы расспросить о происходящем; в ответ они лишь скользили по его лицу тусклыми невидящими глазами, обходили, как обходят неодушевленное препятствие, и шли себе дальше.
Эта картина пугала хуже самых тревожных слухов, и Золман приободрился лишь тогда, когда свернул на ведущую в Клишково грунтовку и отъехал на целую версту от придавленного ужасом черновицкого шоссе.
– Ну и отчего ты так приуныла, Хуми? – сказал он, обращаясь к своей кобыле, которая, в отличие от хозяина, и не думала унывать, а напротив, пребывала в приподнятом по случаю близкого уже стойла настроении. – Хотя кого я спрашиваю? Ты, дочка, еще молода и ни разу не видала такого в своей спокойной лошадиной жизни. А я вот видал, и не раз. Да-да, видал… и в пятнадцатом году во время империалистической, и в восемнадцатом во время Гражданской… Тю!.. Беженцы, Хуми, всегда одинаковы, особенно поначалу. Потом-то привыкают, а поначалу всегда боятся. И взгляд этот, не приведи Господи… думал ли я, что когда-нибудь снова увижу этот взгляд? Нет, дочка, не думал… Ох, грехи наши тяжкие… Да, привыкают. Потому как в дороге – не то что дома на печи: холодно, голодно и голову негде приклонить. Но все равно устроиться можно, это я тебе точно говорю. Если не унывать, понятное дело. Взять хоть меня: знаешь, сколько лет я по дорогам мотался? Тю-ю-ю… Вот и эти привыкнут, попомни мое слово и не унывай. Договорились?
Хуми согласно мотнула головой и прибавила шагу. По ее верным лошадиным приметам выходило, что до дома осталось три версты от силы.
– Вот и молодец! – похвалил Золман кобылу. – А за немца я тебе так скажу: немца я тоже повидал. Воюет он умело, врать не стану, но мы ведь с тобой не воевать с ним собрались – на то есть Красная армия. Немец порядок любит: армия воюет с армией, а гражданские в стороне. Значит, главное – от своего бандитского сволочья отмахнуться. А уж на эту-то шваль у Золмана Сироты управа найдется. Вот оно как, дочка…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу