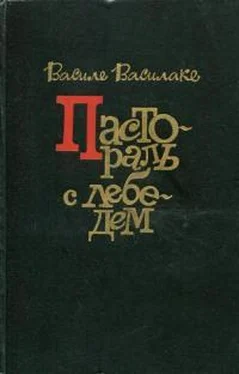Ай-яй-яй, полюбуйтесь на Бостана — такого страху на себя нагнал, будто не ямы копал под виноград, а загонял гвозди в крышку собственного гроба. Люди и рады лишний раз байки послушать, хотя за три для успели меж собой обмусолить все эти подробности. На дворе осень, урожай поспел — где кукурузу собирают, где виноград, чуть поодаль чистят свеклу после комбайна. А коли руки у человека заняты, не молчать же, когда язычок так и чешется. И кто-то из бригады давай подзуживать Бостана:
— Вы у нас главный свидетель, баде Никанор. Ну, давайте по порядку: значит, пока вы добрели́, он уже того… откинулся? Или просто в обморок упал? Ну дела… Покойник уселся под бузиной, кошмар! Может, прикорнул с устатку? Всю жизнь здоровяком был, бравый молодец, не козявка какая-то. А вы там не слыхали, что новенького у Кручяну, хоронить разрешили, нет?
И Никанор начинал вспоминать день позавчерашний, когда он говорил с женой Кручяну… Ах да, аккурат в среду проходила мимо калитки Ирина и он, Никанор, стал выспрашивать, каких сортов виноград у них в глубине растет. Тут он запинался и оторопело восклицал:
— А виноград у него уродил, бре! Лоза черная от гроздьев, сколько живу, такого не видал, не к добру это… — И продолжал: — Хотел пройтись по его участку, пометить лучшие кусты. — Как бы между прочим сообщал: — Думаете, краской буду метить? Дурак я краску переводить — в доме полно дырявых чулок. Где крупные гроздья, привяжу капроновый бантик. Знаете, не гниет этот чертов капрон, никакая холера его не берет! — Потом нерешительно заключал: — Весной черенков нарежу…
А в ушах раздавался голос Ирины: «Это «Лидия», Никанор, «Лидия». Да вы сами поговорите с Георгием, прошу, он дома…» Смотрела она на Бостана загнанной косулей, с укоризной: «Заглянули бы когда попросту, по-соседски… так тяжело, кум, бобылкой живу при живом муже, никто к нам не заходит, будто холерные…»
Никанор тогда не зашел к соседу, решил сначала ям накопать. Вспомнил о разговоре с Ириной, когда покурить захотелось, и он поджидал Георге, чтобы расспросить подробнее. А как наткнулся на мертвого Кручяну под кустом бузины в овраге, отшибло всякую охоту и цигарку стрелять, и лопатой махать. Остался торчать воткнутый в землю заступ в двенадцатой, только начатой яме: на миг померещилось Бостану, что для себя самого роет могилу.
— До ямок ли теперь? — вздохнув, он тихо добавлял: — Увидел, как он скорчился, бре, и думаю: все там будем… ох!
Слушая, люди переходили к другим кучам свеклы, к новым виноградным рядкам, молча брались за работу, а в голове одна мысль сверлила: «Ну и жизнь-житуха, не то что задуматься — помирать некогда!»
Какой-нибудь нахаленок из вчерашних школьников, толкуя шиворот-навыворот Никаноровы вздохи, доставал из сумки бутыль с молодым вином и восклицал:
— Все ясно, одного не понял: живой он был или преставился? Короче, баде Никанор… это не вы его там, в овраге, капроновым-то чулком, на почве ревности?
Чокался с приятелем, таким же шалопутом, а тот подхватывал:
— Да здравствуют ваши ямки, дядюшка Никанор, пусть живут долго и не кашляют!
Перемигиваясь с другими, протягивал бутылку Бостану, а народ стоял, не зная, посмеяться над шуточкой или перекреститься. Никанор натягивал на лоб шапку и говорил, будто не над ним подтрунивали:
— Э, да что там… Пока спустился, пока глаза протер… он уже мертвехонький.
Бостан поглядывал исподлобья, по-отечески жалел зубоскалов: «Что с них взять — выросли, уткнувшись носом в телевизор. Получи-ка, дядя Никанор, пинка под зад… Ничего, обзаведетесь своими детишками, поглядим, кто посмеется!»
Сельчане снова хватались за дело, упрямо, будто назло кому-то: «Некогда умирать, некогда!» Но говорили о чем угодно, только не о том, что было на уме.
— Петрикэ, сынок, — подзывала какая-нибудь женщина, стряхивая с рук землю, — поправь-ка воротник у фуфайки, а то этот северяк задул, до костей пробирает, чертушка…
Смерть Кручяну плутала где-то по бескрайним полям, рассеивалась, словно дымка в знойный день над пахотой. Люди молчали, пряча лица от ветра: «То-то и оно, умрешь, не успев глаз сомкнуть. Давайте скорее делать что-нибудь! Лучше не вспоминать об этих страхах — некогда думать, некогда умирать…»
Примолк и Никанор, не по себе стало: чего разболтался, мэй? Вечно у него так — видит, пора замолчать, а остановиться не может. Со стыда готов сгореть, но язык как заведенный. И все-таки легче на душе становится, если дашь словам волю.
Порой просто руки опускаются: зачем люди столько болтают? А может, так и родились на свет божий прописные истины? Открылась тебе, скажем, истина, великая и полная тайны. Долго ли с ней молчком усидишь? Ну, пустишь ее в мир — запорхает с языка на язык, как мотылек над полянкой, пообтреплется твоя истина, затянет ее, как низину, илом и влагой. Ждешь-пождешь мотылька, а его нет как нет. Сойдешь туда, в низину, и тайное станет явным: не вернется и не полетит больше твоя истина-мотылек, хоть плачь. Лишь крылышки еще шевелятся под ветерком в паутине, а тельце уже обсосано…
Читать дальше