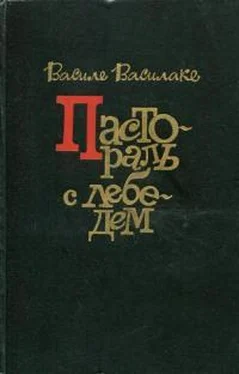И Костэкел заплакал. Да, заплакал, как ни за что ни про что обиженный малец, размазывая слезинки по морщинистой щеке.
А через месяц с небольшим дед Костэкел пустился в дальний путь. Сосед Гаврил, обмывая новый забор, рассказал под конец:
— Вот вам крест, умер, будто заснул… Хоть и жили с ним душа в душу, а позвал меня напоследок, чтоб грехи друг другу простить. Бодренький такой, я и думаю: зачем пригласил? «Давай простимся, говорит, ухожу». — «Куда собрался?» — спрашиваю. «Далече, — говорит, — за кудыкину гору». Я, помню, так и сел: «Не спеши, Костэкел, нам с тобой еще забор ладить». А старик в ответ: «Справься сам, Гаврилаш, какой из меня помощник… Знаешь, — говорит, — подошла ко мне смерть, ей-богу, умираю… а особенного ничего не чувствую. К чему бы это, как думаешь?» — «К добру, — говорю, — дедуля, значит совесть чиста». — «Эх, — скривился дед, — шуму много про совесть, а ты ее видал, Гаврилаш? Вот возьми лучше сто рублей, а вернется из армии Аурел, дашь ему деньги, пусть покупает свечи из чистого воска и зажигает на деревьях…» Я давай смеяться: «Ты что, дед, на старости лет деньгами сорить начал?» А он тут заговорил как по писаному: «Придет час, и нальются зеленью майские травы, и люди смешают полынь с вином и выпьют, чтобы весна была бурной и лето урожайным, и тогда при свете восковой свечи молодые листочки вспомнят о цветах, а цветы — о мотыльках и пчелках, ибо откуда этот воск ярый, если не от божьей пчелы? Пусть на зеленых ветвях танцует огонек, как солнечная искра, что и радует, и обжигает…»
Гаврил допил свой стакан, крякнул, вытер усы рукавом и добавил:
— Проснулся в нем пономарь перед смертью. Пока молодой был, тушил свечи в церкви, под конец велел зажигать — прошла жизнь…
Так ушел в мир праведных мош Костэкел. Долго еще вспоминали его благостную кончину: все земные дела расписал и сдал в архив старый бухгалтер, будто сошелся у него копеечка в копеечку подбитый с умом годовой отчет. А через пять лет без малого снарядился за ним следом Георге Кручяну, тот самый, что ошарашил старика на собрании: «Растолкуй нам, темным, откуда насобирал ты столько нулей. И как это получается: главбух — сама честность, цифирки сходятся, а корабль тонет? Потопил Костэкел царей-королей, потом Крестьянский банк, зато у нас, выходит, все в полном ажуре? Ах ты крыса, пустил на дно наше суденышко, а сам сбегаешь?» И пошли опять суды-пересуды, пухли головы у сельчан над Костэкеловым завещанием: «Хе, совесть, мил человек… Кто ее видел? Пора зеленым деревьям свечки ставить!»
Четвертый день бурлит село — поди разгадай этого Кручяну, если сердце у него в полтора размера. Слухи бунчат, что осенние мухи на солнцепеке, да и как им не бунчать, если мужик только в самую пору вошел, будто вторая молодость на него накатила. Овдовела жена, спорая да ладная, хоть заново веди под венец, тремя сиротами стало больше в селе — старшенькая, Ленуца, вот-вот заневестится. Без хозяйской руки и пригляда остался новехонький, весной отстроенный дом, сад и полгектара уродившего виноградника, да еще родии, кумовьев, приятелей полсела… Как будто из слепого упрямства человек от всего отмахнулся и отчалил к другому берегу без сожаления, как престарелый бухгалтер: и жизнь не в радость, и сам себе в тягость.
Сельчане чесали в затылках: что ему так опостылело? Молодой, крепкий, как дубок, дом полная чаша, зла ему никто не желал… А Кручяну взял да напоследок разругался-расплевался со всем миром, как одинокий забулдыга посреди дороги:
— Чего они трясутся, эти всезнайки? Смерти боятся, вот чего! Зато мне на нее — тьфу! — и растереть. Не верите, так вас переэтак? Хотите докажу? Получайте…
И упал замертво. Нашли его средь бела дня на тропинке, которая вела через овраг из центра села к нижней окраине, где его дом стоял последним.
Никанор Бостан, сосед покойного, рассказывал потом в поле, как натолкнулся на Георге, и люди соглашались: мудреное дело, с наскока не разберешься.
— Прямо не верится… Третий день, а не верится, что умер Георге. Будто час назад видел, как он идет, живехонек… — Никанор сокрушенно вздыхал. — Постойте, когда это было? Тьфу ты, как время бежит… Своими глазами видел, как он шел по тропинке! Спускался по склону в овраг, из буфета, похоже, путь держал. Притом, вижу, курит! Чадит вовсю папироской, а я еще удивился, с каких пор Георге табачком балуется? И самому захотелось затянуться. Решил, подожду, покуда подойдет — попрошу цигарку или хоть дымка разок потянуть. Копал ямы для виноградных тычек, хочу весной посадить с полсотни кустов «Лидии», и вот я себе копаю, копаю… Где, думаю, Кручяну застрял, — в другую сторону подался? Э, видать, не дождешься, схожу-ка сам в буфет. А дальше… что вам сказать? Спустился в овраг, гляжу, люди добрые, он сидит, прислонился к бузине, а сам не дышит. И холодеть начал…
Читать дальше