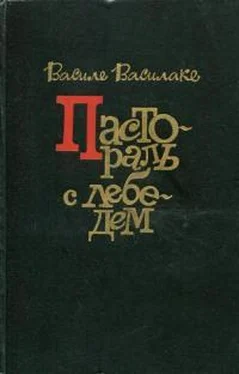Аурел поерзал на завалинке, подвинулся:
— Мэй, да у наших упокойных сейчас, поди, слюнки текут — не забыли, бедолаги, какой дух от плацинт… Пальчики оближешь!
— Да что уж, все бы вам смеяться… — Хозяйка сияет: угодила гостям.
— А ну, красавица, присядь-ка с нами, оп-ля!
Гаврил подхватил ее под руку, усадил рядом:
— Забор мы тебе отгрохали? Стало быть, все обиды побоку — первое дело для соседей!..
Дивится хозяйка местным обычаям — покойник пасет души как отару овечью на выгоне, а сама знай подкладывает в тарелки. Ой, капнула на фартук, раздавленной черешней расплывается пятно, солью поскорей присыпать…
— Так-то, значит… Говорим, братцы, говорим, — посерьезнел Гаврил, — а и вправду ведь никто не помирал после моша Костэкела. Я к чему это? Хорошо живем!.. Так хорошо, что над смертью подшучиваем. И это тоже неплохо, норов у нее такой: не бойся костлявой, и она тебя не тронет.
Не заметили соседи, как умяли полную миску плацинт, осушили два кувшина вина, болтая о том о сем, и под конец опять старика вспомнили: прожил он, душа голубиная, девяносто шесть лет и три месяца, а все дитя дитем казался, до седых волос звали его ласково — Костэкел, словно кроху-ползунка.
Лет с шестнадцати служил он за харчи у попа, присматривал за хозяйством, управлял его наделом в тридцать десятин, продавал в церкви свечи из поповского воска. Со временем приноровился стучать костяшками на счетах, грамоте выучился, привык копаться в поминальных книжицах да церковных отчетах. Скинули царя, и у Костэкела зашелестел гроссбух под мышкой: он уже счетный работник Крестьянского банка. Денег в том банке отродясь не водилось, зато высились груды бумаг — векселя, акции, счета, аккредитивы и прочая цифирь, в которой, надо признаться, Костэкел поначалу мало что смыслил. Вскорости Крестьянский банк ликвидировали, а его произвели в финагенты… Вот так полегоньку, тихой сапой, от церковного служки до налогового инспектора с лукавой улыбочкой:
— Есть деньги, нет денег — пожалуйста денежки. Здрасьте! Как у нас с налогами? Не придется королю докладывать, чтоб свои выкладывал?
Пришел сороковой год, и дед Костэкел не унывает: он кассир, живые деньги на руках, а не бумажки, не леи с королевским профилем — хрустящие рублики из далекой юности, на сей раз потекли они от доходов сельской кооперации, которая начинала в сороковом с лавчонки, а к семидесятому обзавелась девятью магазинами и шестью буфетами.
За тридцать лет мош Костэкел сделал круг по сельповской конторе, посидел за каждым из четырех столов, от простого кассира поднялся до бухгалтера, причем главного! И учетчиком поработал, и счетоводом, но, к удивлению многих, сколько ни велось за эти годы денежных счетов-пересчетов, начислений и выплат, никто с ним не повздорил, а сам он только добродушно посмеивался. Костэкел так сжился со своим главбуховским столом, что когда надумал выйти на пенсию, его не хотели отпускать.
— Дед, — сказал Костэкелу председатель правления, — без тебя заведутся у нас всякие шахер-махеры, сам знаешь. Больно жаден стал народ до сытой жизни. Видал, кого присылают из молодых? Потерпи немного, с тобой я за тылы спокоен. Лет через пять и мне на пенсию… Давай вместе досидим, чтоб без сучка-задоринки, а?
— Служи и помалкивай, Алион, страна в тебе нуждается, — ответил ему старик. — Что ты равняешь свои пятьдесят шесть от роду с моими — семьдесят четыре на службе? А сколько из них я бесплатно оттрубил? Помнишь церковь? А Крестьянский банк? Что там за доходы, прости! Будь они неладны, эти банки. Теперь наш район построил себе лестницу. Ты видел эту египетскую пирамиду? — Он огорченно махнул рукой. — Цемент им девать некуда, скоро мы его в борщ станем сыпать…
Председатель похлопал его по плечу:
— Хочешь напоследок лестницу разворотить?
— Какому-то англичанину пришла фантазия приделать льву крылья, а мы и рады… — вздохнул Костэкел. — Сколько себя помню, у банка одно на уме: побольше ступенек для параду и эти крылатые львы у входа. — Старик печально покивал головой: — Знаешь, Алион, банк — это элеватор с нулями… Пора мне, тикают мои часики, много натикало.
Через три недели отчетно-выборное собрание пайщиков пяти сел признало отличной деятельность местного сельпо, как признавало все тридцать лет подряд. Под конец старик выступил:
— А теперь попрошу подыскать на мое место человека помоложе, товарищи. — И вздохнул, прощаясь с дорогими его сердцу пайщиками. — Может, кто не поймет меня: зачем уходить, если здесь хорошо? И зарплата идет, и купить есть что, буфетик под боком… Тут и для домишка кому шифер найдется, кому кафель подыщется, и стаканчик пропустишь с кусочком колбаски…
Читать дальше