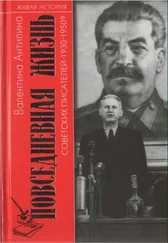Вечер был отличным. Горели фонари, падал первый снежок, накладывая прихотливые, ажурные узоры на выбеленные стены домов. Хрузов свернул на проспект и пошел вперед без всякой цели.
Как странно, думал он, что Ледяшин повторил тот же эпитет, которым в семнадцать лет наградил Хрузова муж тети Нины. Совпадение окончательно и безнадежно подтверждало его справедливость. Небожитель… Тот, кто живет на небесах. Может быть, это не так уж плохо? В общем так, смотря, с какой интонацией произносить это слово. Ледяшин сумел вложить в него столько откровенного презрения, что в его интерпретации оно звучало обидно. Напрашивались синонимы: блажной, маленько сдвинутый, витающий в облаках.
Истинная правда: до недавнего времени Хрузову было мало дела до того, что творится в окружающем мире. Федора кормили, одевали, обували, холили и берегли, а он только занимался своей наукой, искал неподвижную точку, словно это была та точка опоры, которая даст ему возможность перевернуть мир. И он привык к этому. Он как бы скользил по поверхности житейских проблем и не ощущал потребности переступить ту известную черту, за которой начинаются светотени. Но неожиданно все это кончилось. Он лишился жены, друга, под угрозой срыва оказалась его защита. Ему придется-таки встать на землю.
Он встал — и тут же оказался одной ногой в зыбкой топи засасывающего отчаяния…
Хрузов медленно брел по Ленинскому проспекту в направлении площади Гагарина. Люди обегали его, сердито оборачиваясь, чтобы показать, что он мешает общему ритму движения. Федор не обращал на них внимания. Ему было невыносимо гадостно, и никакая суета не могла совладать с его дурным настроением.
Да, хорошенькую свинью подложил ему Ледяшин! Кто бы мог подумать, что Сергей, по мнению многих, начисто лишенный научных претензий, будет вымаливать себе место под солнцем таким предательским способом! На Моренова Хрузов почти не злился. Еще раньше он заподозрил в нем некоторую моральную нечистоплотность после той истории с полставкой в вузе, которую Владимир Маркович оттягал себе у Никитина. Где уж заведующему сектором Никитину было соперничать с заведующим лабораторией Мореновым! Никитин ограничился только тем, что распустил кулуарный слушок о том, как ему выкручивали руки в кабинете у директора. Хрузов не очень-то верил ему. А сейчас — новая интрига Моренова! Но она уже не изумляет. Досадно только, что сюда впутался Ледяшин. Почему он так поступил? Неужели только потому, что испугался? А как же честь, доблесть? Доблесть… Она утеряна еще во времена Тацита! Очнись, Федор! Ты живешь в конце двадцатого века, и если уж тебе предстоит действовать, то по его законам.
Внезапно Хрузов принял решение — биться до конца. Наука была для него всем, он не может оставить ее, потому что тогда он ничтожество, мелкое насекомое. Надо взять себя в руки. Надо повести затяжную, беспощадную войну. И никаких срывов, как сегодня с Ледяшиным, никакого эпатажа. Давить только бумагами, аргументами, обаянием. Врага надо бить его же оружием.
— Ну что же, я уже вышел из детских ходулек и в состоянии постоять за себя сам, — громко произнес Хрузов и, наверное, оттого, что он принял решение, ускорил шаг. Прежде он выбивался из толпы, теперь органично вписался в этот бурливый поток, понесся вместе с ним по площади, обогнул ограждение (рыли котлован), прихватил вечернюю газету из автомата, задержался в дверях метро, словно ныряльщик, который набирает в легкие воздух, прежде чем скрыться под водой, затем пошел через турникет, спустился в недра земли на эскалаторе, протиснулся в вагон, схватился рукой за поручень и стал как все, стал одним из двух миллионов, которых перевозит за день Московский метрополитен.
«Мы еще посмотрим, небожитель я или человек, умеющий постоять за себя, — думал он. — Грош цена моим идеям, если я не отстою их. Никакой Ледяшин не сможет довести их до законченности. Только я. Значит, на мне и ответственность за них… Буду бороться!»
Актовый зал заполнялся стремительно. Это было просторное помещение, увешанное портретами великих математиков — Эйлера, Лобачевского, Ляпунова, Стеклова, Маркова, — с несколькими рядами деревянных скрипучих кресел, какие стояли в кинотеатрах шестидесятых годов, с цветами в горшках на мраморных, местами оббитых подоконниках, неизменным запахом пыли и каким-то особым, величавым эхом, которое степенно плавало под самым потолком, призванное как бы объединять всех собравшихся, суммировать их разговоры, тихие смешки и серьезные замечания в один общий звуковой фон.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)