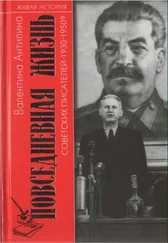Он захлопнул дверцу кабины, улыбнулся шоферу и подул на ладони.
— Слава тебе господи, хоть один остановился! Битый час торчу, страшный ветер!
— Супсаркис [11] Имеется в виду день религиозного праздника. Часто в этот день дует сильный ветер.
нынче. Пока кого-нибудь не удушит, не уймется.
— Так уж и удушит…
— А то как же. Ты не с кизлярских пастбищ?
— А ты откуда знаешь?..
— На лбу у тебя написано: отару бросил, а приплод-то ведь на носу…
— Сын у меня родился.
— Первенец?
— Первенец.
— Ну а почему такой кислый?! Радоваться надо. Ты не зятем Сандрии будешь?
— Да.
— Когда ты женился, я в Кизляри был, на сенозаготовке. Ты к Сандрии не ходишь, не то знал бы меня. Иасона я. Парень родился, говоришь?! С тебя причитается. Вот возьму и высажу тебя у столовой, идет?
Гигла засмеялся:
— Идет.
Мокрые, крупные хлопья снега залепляли ветровое стекло. Машина катила по заснеженной дороге, и монотонный гул мотора убаюкивал сидящего в тепле кабины Гиглу. Он нехотя слушал Иасону. С тех пор, как узнал про рождение сына, не мог прийти в себя, все пытался представить, какой он. Но ему это не удавалось. Лишь плач он слышал, плач ребенка, протяжный, напоминавший ему блеянье только что родившегося ягненка. Взволнованный и сладостно возбужденный, объятый неведомой прежде нежностью, Гигла прислушивался к этому плачу. Иасона же вглядывался в отливавшую синевой обледенелую дорогу и спрашивал:
— Отару на кого оставил?
Трудно было оторваться от сладостной дремы. Гигла нехотя открыл глаза:
— Ведь ненадолго. Ребята заладили: езжай да езжай…
— А приплод нынче хороший ждете?
— Отменный. Моя отара стопроцентной будет.
— Ну и даешь!
— Обязательство у меня такое.
— В честь сына, что ли?
— Да.
У Гиглы было такое чувство, будто он в невесомости. Наверно, такие же ощущения у человека в самолете, думал чабан. Вот подрастет сын, возьмут они и двинут куда-нибудь вместе, пролетят над кизлярскими пастбищами. Интересно, какими сверху покажутся овцы?!
Обмотанные цепями колеса скользили по льду, и порой казалось, что машина вот-вот сорвется и полетит в пропасть. Иасона внимательно вглядывался в дорогу, спокойно и уверенно крутил баранку.
— Вроде бы пора зиме уняться!
— Февраль еще… Ты со своим тестем Сандрией примирился?
— Какой там…
— А чем ты ему не угодил?
— Поди узнай. Перебирайся, мол, с семьей в долину.
— А это еще зачем?
— Горцы, мол, неотесанные, провоняли овчиной.
— Масло и сыр овечий есть он мастак! А сам разве не с гор спустился в долину, кто его приглашал?! Что, если все горцы вниз ринутся? Расскажи лучше, как ты со склада удрал!
— Вызвал меня Сандрия в разгар стрижки овец и запер в складе сельпо. Мне, говорит, больших денег стоило это место. И не такие, как ты, здесь сидят. Хотел, чтоб я свой дом в деревне продал, даже покупателя нашел. С месяц я продержался, а потом дал деру в Кизляри. Весной, когда мы овец в долину пригнали, он и разговаривать со мной не стал.
— Вообще-то жалко его. Единственная дочь… Сам в поселке, она — в горах.
— И у меня единственная жена.
Засмеялись.
Гигла представил самодовольное лицо тестя. «У меня жена, — говорил он, — как княгиня. С тех пор, как перешагнула порог моего дома, не выходила больше никуда. Не то что другие женщины, разрываются между домом и работой!» Вот она и иссохла вся, глядя только на него. Недаром его жену Сону в поселке «сонной» прозвали. Дни и ночи Сандрия бедняжку тиранит. Не мудрено было ей иссохнуть…
Или взять, к примеру, Анико, думал Гигла. Как это она осмелилась без ведома отца за меня пойти?! Именно, говорит, раз чабан, потому и пошла за него. А тесть: ты, мол, как пасхальное яйцо в лаваш, так в бурку заворачиваешься, не можешь иначе. Смеется надо мной, а что тут смешного?! Все настоящие мужчины бурку носили. Не ляжешь ведь на землю в костюме да плаще! Видать, другой червь Сандрию гложет. Думает, что куском я Анико попрекал, раз ее из дому потянуло. Знал бы он, как она похорошела с тех пор, как работать начала! Зря, что ли, пять лет проучилась, не все же ей посуду мыть. И меня восемь месяцев в году дома нет, каково ей одной? Какая нынче женщина дома сидит?! Другие времена! А он: другие тебе не указ! Желчный он, злой. Когда сам в долину перебирался, говорил же Анико: брось этих вшивых, езжай с нами. Не может ей меня простить. Нашел бы другого, как бы не так!.. И дом есть, и хозяйство, и друзья. Вот и отцом стал. Представляю, что с ним будет, когда я весной стопроцентную отару пригоню. А падежа можно не опасаться. Ребята разве допустят!..
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)