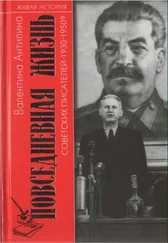— Интересно, как там мои ребята… — сказал он Иасоне.
— Когда возвратишься?
— Не знаю, вот устрою моих и…
Замолчали. Гигла потеплее укутался в тулуп, закрыл глаза. Перед ним все еще стояло распухшее лицо тестя. Тесть косо поглядывал на него, измерял взглядом. Сам виноват, что в деревне его невзлюбили. Сколько неприятностей причинил людям, когда фермой заведовал. Лишней овцы, мол, чтоб не было в отаре, а увидит, тут же ей уши обрежет. Кто его спрашивал?! Что он, умнее правительства?! И за то, что по закону было положено, в ножки заставлял кланяться. У самого, что ли, мало собственных овец с колхозными паслось? Целую отару нашли. Насилу отстранили от должности! Вот и ушел из деревни! А как пыжился, будто кто ему должен был. Я-де своим честным трудом на хлеб зарабатывал, злые люди меня оговорили. Это он мне говорит. Разве я виноват? Спросили, чьи овцы, я и ответил. Тогда ведь он не был моим тестем, чего же петушиться. Не оценила, видите ли, его деревня. Так ведь он ее не стоил. Деревню не проведешь! А Анико: не любишь, мол, отца… Ради меня бы помирился, ради нашего сына! Я бы все ему простил, если б он не был таким желчным. Опять я заладил! Разве сейчас время об этом?! Ради сына не только с тестем помирюсь, горы сверну! Разве я виноват перед ним, но все равно скажу: прости, считай меня родным сыном. Поцелую в плечо. А если он опять меня начнет сманивать в долину, я сделаю вид, что не слышу. Постарел он, бедняга, сгорбился. Разве легко ему не видеться месяцами с единственной дочкой? Может, я Анико с сыном и вовсе оставлю у тестя до весны и сам за них буду покоен. Завтра же вернусь в Кизляри. Негоже в такую пору овец бросать!
Февральский ветер с силой обрушивался на стекло, норовя ворваться в кабину.
А там, в Кизляри, уже весна. Стоит теплая и безоблачная погода. Отара пасется на зеленом лугу. Как снежные хлопья, белеют овцы в траве. Пыль стоит столбом, шумит мошкара. Бежит ягненок, совсем еще молочный, кувыркается. Бьет стоими крохотными нетвердыми еще копытцами нагревшуюся, размякшую землю… Он ведь хозяин здесь и властелин…
В сладкой дреме Гигла улыбался. Иасона, вцепившись в баранку, сидел молча, не мешал ему думать. Потом спросил:
— Жена в поселке разрешилась?
— В поселке.
— Вот ты и зайди к тестю. Обласкай его. Пока ты в Кизляри управишься, оставь у него жену и ребенка. Не лучше ли так? И тебе спокойней будет.
— Так и поступлю! Я для того и приехал, чтоб помириться с ним. Да и жена покоя не дает. Письмо прислала…
Показался поселок, и Гигла заерзал. Так и хотелось выйти у больницы и проведать жену с сыном. Но он заставил Иасону остановиться у столовой. Сели за стол. Иасона поднял стакан:
— Пусть растет большим твой мальчик. Дай бог ему силу богатырскую и правдивое сердце!
Выпили за примирение с тестем, за дружбу, много еще за что. Когда захмелели, начали спорить, какой подарок купит Гигла жене. «Когда у меня сын родился, — сказал Иасона, — я взял да купил жене ожерелье. Такая вещь всем женщинам нравится». — «Есть ожерелье», — сказал Гигла. «Тогда, — опять советовал Иасона, — купи ей часы с браслетом, золотые». — «И часы у нее есть», — ответил Гигла. «Ну, тогда перстень купи, с сапфиром». — «Не только перстень, — говорит Гигла, — а летом я ей даже пианино в деревню доставил, так, ради потехи, играть-то она не умеет». — «Ну, тогда, — не унимался Иасона, — купи мальчику велосипед или машину, может, он шофером будет».
Подвыпивший Гигла подошел к дому тестя. Его встретила теща. У сонной Соны в глазах светились тепло и радость. Гигла растрогался. Сели у печки. Потрескивали в огне сосновые поленья.
Заговорили по-домашнему, как мать и сын. Гигла спросил:
— А тесть как поживает?
— К Исаку пошел. Корову нынче закололи, зоотехник сказал, бруцеллезом больна. Справку не дал. Вот он и хочет свезти ее куда-нибудь…
— Что?! Что значит — куда-нибудь? На базар?!
Теща потупилась.
Гиглу как кипятком ошпарило. Лицо у него загорелось. Он молча, без тулупа и шапки, спустился в подвал. Завернутая в мешковину коровья туша лежала там. Он схватил ее, взял и мешок с ногами и головой, взвалил все это на спину. Попросил лопату…
— Сынок… Сынок… — шла за ним испуганная теща. — Брось, сынок, надорвешься. Он сам потом свезет, на тачке.
Гигла не ответил. Молча зашагал прочь.
Сумрак похитил остаток и без того короткого февральского дня, и Гигла удивился, как незаметно наступил вечер. Чабан шел по дороге к больнице, и лицо его постепенно прояснялось, как небо после непогоды. Он успокоился, черные думы уже не терзали, подобно пиявкам, его сердце. В ушах стоял плач сына, и этот плач шаг за шагом придавал ему бодрости.
Читать дальше

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)