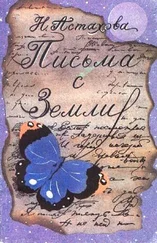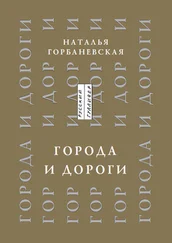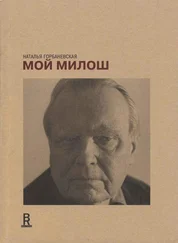и густоту, и редкость речи,
нагруженной на эти плечи
случайные, мои,
как воин, кликнутый на вече,
оставивший бои.
Задраенной бойницей
покой не нарушается земной,
подраненною птицей
между молчанием и тишиной
хромая, опирая
свой вес на уцелевшее крыло,
достигну двери рая,
куда не вхоже зло.
И страдавша, и погребенна…
И страдал, и на мгновенье
усомнился – всё как мы.
Значит, Боговоплощенье
– не концепция, не мненье,
не идея, и умы
ничего тут не прибавят,
не убавят ни на грош,
на весь свет себя ославят
и галерку позабавят
да услышат: «Что ж ты врешь!»
Рок ли грозит?
Рог ли трубит?
Рай ли в окне?
Рады ли мне?
Рою и строю
в оврагах и рвах
новую Трою —
войн мировых,
новую пролубь —
льдины взорвав,
крошек, как голубь,
жду даровых.
Рано ли, зоренька,
вовремя встала ли?
Засветло? Затемно?
«…но как разбойника» —
ртами усталыми
твердим старательно.
Пустота —
что прыжок с моста,
и пустот —
что пчелиных сот.
Сосчитай до ста,
до двухсот, трехсот,
зерна не оста-
вил на зерне осот.
Но о том зерне,
умершем в стерне,
что не погибнет,
знает лишь стерня,
к которой сорняк
в агонии выгнут.
Богоматерь моя
по реке приплыла,
пеленала Младенца
в петушиный рушник.
А речная струя,
холодна и светла,
бормотала: – Надейся,
еще полдень не сник,
и проворный казак
из воды извлечет
чудотворную доску,
подгребая веслом,
и вчерашний закат
разольется в восход,
где и меду и воску
со слезой пополам.
Всё исчерпывается,
исчерчивается, как лед коньками,
и колется, как стекло.
Всё истачивается,
истаптывается под башмаками
и как будто уже утекло.
Всё истощается – и почва, и толща
океанских вод.
И ты источаешь без страха и молча
свой постепенный уход.
– — – — – — а страшно
со смертью пренье преть всечасно,
кидаться, угорев, на брашна,
змею в груди угрев. Напрасно
оглядываться вспять, впопятно,
на три-четыре-пять, на пятна
былого на стене. Прекрасно
пытать: «А что же не напрасно?»
Но ангелы легко на кончик
иглы вспорхнут, и колокольчик
за ними, как слеза, вспорхнется,
и воспарит, и задохнется.
«Над грязию, над блатом…»
Над грязию, над блатом
всходящая луна,
и нет, не циферблатом
душа моя полна.
Хоть я и не лунатик,
бредя на тусклый свет, —
не физик-математик
влачащийся послед.
И не с наукой умной
навяжет сердце связь,
в подсолнечной, подлунной
вселенной веселясь.
«Печальница, она же веселуха…»
Печальница, она же веселуха,
о душенька, о дудочка, о духа
вместилище, похрустывая хрупко,
как первая под сапожками крупка
в тот год, когда осенняя погода
стояла долго. Не прошло и года,
как облака просыпались шурша,
и по́ снегу спешит моя душа.
«Отшкольничав, отшкодничав…»
Отшкольничав, отшкодничав,
отпев и отлюбив,
пришла к тебе, угодниче,
в поклонах лоб отбив.
Глаза твои – как уголья
и жгут, не разрешить.
Такая уж заслуга ли
на старость отгрешить,
отпить вина и выплюнуть,
когда нутро неймет,
и горьки слезы выплакать
в сухой янтарный мед…
«Где на снегу следы оленьи…»
Где на снегу следы оленьи,
там икона Умиленье,
а где таежной чащи заросли,
там Скорбящих радости.
Пересчитай и перечисли,
кати в Китай, и там найдется
и блеск воды на коромысле,
и Приснодева у колодца.
«Другие – это ад,
рвотный порошок», —
сказал известный гад,
вгоняя грешных в шок.
Другие – это рай,
лекарство от тоски.
О Господи, подай
касание руки,
мерцание ресниц
в ответ на взгляд – и взгляд
простершегося ниц:
я сам свой худший ад.
«В небе августа звездотечь…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу