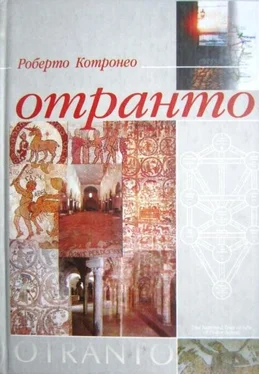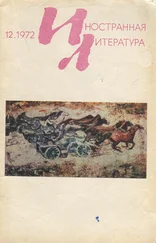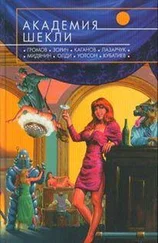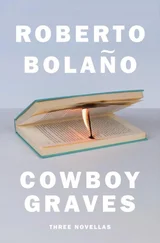Когда мы ехали назад в город на машине Бридзио, он без умолку говорил, с трудом подбирая нужные слова, и в его монологе чувствовались сразу и желание предостеречь, и откровенная доверительность, и склонность к расследованию. Теперь его голос звучит у меня в ушах, словно я прослушиваю магнитофонную запись. Постараюсь ее воспроизвести со всеми характерными особенностями: с постоянным повторением «синьора», с неожиданными переходами с «вы» на «ты», что вообще характерно для здешних жителей. «Синьора, ты очень испугалась? Прости, но это все здешние байки. Их все немножко знают. Может, это все и ерунда. Вот что: мне рассказали одну, про синьору, которая не вернулась. Кто-то, не знаю кто, ведь прошло уже столько лет, говорил, что видел ее на дороге к башне. А потом, кто знает, может, она и вернулась, собрала вещи, да и уехала себе. Скажу вам, однако, синьора, что про нее спрашивали даже карабинеры, потому что она оставила все как есть в своем домике в новых кварталах. Говорили, ничего не пропало, нашли даже раскрытую книгу на постели, а на столе в кухне чашку из-под молока. Как будто хозяйка должна была вот-вот вернуться. Я тогда был мальчишкой. Тогда женщины у нас не одевались так, как она: она казалась голой, все просвечивало. И мы ехали за ней на велосипедах, чтобы поглядеть. И поджидали, когда она выйдет из дома. Когда она исчезла, все были поражены, и потом, туристов ведь в наших краях тогда не было. Она появилась неизвестно откуда. Это было невероятно. Потом один знакомый мальчишка рассказывал, будто побывал у нее дома: она его позвала в окошко. Никто, конечно, ему не поверил. Карабинеры вошли в ее дом через несколько дней. Все думали, что ей стало плохо, и она не смогла позвать на помощь, или что-нибудь в этом роде. А потом, когда в доме ничего не нашли, стали говорить, что ее видели на дороге и что, должно быть, ее смыло морем. Я сам ничего не знаю. Тут все только и делают, что рассказывают всякие байки вроде этой. Мне это не по душе, это не дает никому покоя. Вот и теперь: я еду на машине и вдруг вижу тебя, одну, в такую непогоду. Я, было, решил, что это не ты, уж больно ты походишь на ту чужестранку, которая нам нравилась, и за которой мы в детстве шпионили. Впрочем, для нас все чужестранки на одно лицо… Ой, что я говорю, наверное, это нелюбезно. Одним, словом, я растерялся. Вы-то, синьора, тут причем? А потом, знаешь, у меня создалось впечатление, что в том месте был кто-то еще. Может, и привиделось. Просто не верится, что ты оказалась в такую непогоду у башни совсем одна. Погляди на дворники, с ними и то ни черта не видно. И все-таки там бежала какая-то тень, когда ты меня увидела. А может, и нет, может, это моя застарелая мания. Мне всегда говорят: „Бридзио, не зацикливайся, Бридзио, спятишь!“. Есть у меня такая мания, бродить по здешним дорогам. Безо всякой цели, просто сажусь в машину и еду себе потихоньку. Еду и гляжу по сторонам. Вам, наверное, интересно, синьора, что я ищу? Отвечаю: сам не знаю. В хорошую погоду останавливаюсь и гляжу на горизонт. А сегодня погода немножко пугает, верно? Не возражаешь, если я тебя высажу здесь? В это время дня нельзя въезжать в исторический центр на машине. Я приду в собор попозже. Пока, синьора».
Андромеду, дочь эфиопского царя Цефея и Кассиопеи, приковали к скале. Отец предназначил ее в жертву морскому чудовищу, которое опустошало его владения. Однако Персей, увидев прикованную Андромеду, убил чудовище, спас девушку и женился на ней.
Морское чудовище звали Кетус, то есть Кит. И Кит, и Андромеда, и Кассиопея — созвездия осеннего неба, и моряки их хорошо знают.
Стояла уже осень, когда кто-то из молодых рыбаков сказал мне, что звезды Андромеды нынче сияют, как никогда, и что это хороший знак. Я спросил у него о созвездии Кита и о Персее. Я не смог, как Персей, спасти ее от ревущего чудовища, которое пришло с моря.
Глядя в осеннее небо, я подумал о мальчики, которого в городе все знали как нашего сына. Он не сложил свою голову на камень, моля Бога.
Его видели со связанными руками на мостике корабля, отплывающего в Константинополь. Он пристально вглядывался в небо, как звездочет. Но такого не мог бы предсказать ни один оракул.
Мне нравилось, как отец крутил педали велосипеда. Молчаливо, как все, что он делал. Слышно было только тихое стрекотание цепи, похожее на стрекотание детских игрушек-вертушек. Он ехал со мной рядом, и я только диву давалась, как у него получается найти тот единственно верный ритм, который вел его велосипед неспешно, уверенно и с достоинством. У меня так не выходило. Даже на подъемах он никогда не напрягался, не пытался форсировать скорость, и казалось, что колеса его машины крутит благородный мотор. А я всегда ехала рывками, то отставая, то вырываясь вперед, и часто многое из того, что ровным и спокойным голосом рассказывал на ходу отец, не долетало до моих ушей. Он говорил, что мама тоже ездила так: «Никак ей было не приноровиться ехать, как положено. То слишком увлекалась и рвала вперед, то задумывалась и отставала». Кончалось тем, что снашивались тормоза, и велосипед приходилось чинить. Но мама не унывала, она шла пешком в своих любимых туфлях без каблуков, похожих на балетные тапочки, хотя в Голландии такие туфли очень неудобны: в них холодно, и они промокают от частых дождей. Голландки не носят таких туфель, особенно зимой. Мама носила их круглый год и, если б могла, она, наверное, с удовольствием ходила бы босиком. Готова поклясться, что иногда она так и поступала. Мы с отцом — другое дело, мы разъезжали на велосипедах бок о бок, как можно ближе друг к другу.
Читать дальше